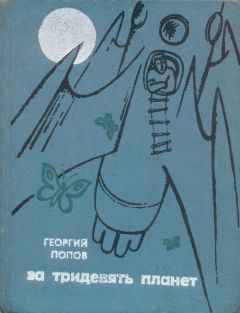На этом Шишкин прервал чтение. Мы были… мало сказать — потрясены, у нас было такое чувство, будто перед нами открылась бездна, о которой мы прежде и не подозревали. 65 и 4,5 миллиона… Шуточное ли дело!
Правда, открыл это какой-то К. П. Станюкович, судя по всему — наш, доморощенный, а, как известно, нашим мы не очень верим… Но, с другой стороны, его точку зрения разделяет не кто-нибудь, а сам профессор Жак Бержье, француз, а это уже, что ни говори, существенно меняет дело.
— Это вам не запчасти к «ДТ-54», — потряс в воздухе журналом Шишкин.
— Да-а, тут есть над чем подумать, — вытаращил глаза и как-то весь сжался мой сосед и друг Семен. Некоторое время он смотрел на меня не мигая, потом хрипло, ошеломленно спросил: — И ты… ничего?
— А что? — не понял я.
— Как же… Далековато, как я понимаю. И лампы… Есть ли они, эти лампы?
— Что-что, а лампы будут! — значительно шмыгнул носом Кузьма Петрович.
Шишкин поддержал его.
— Я думаю, товарищ Станюкович не подкачает! — сказал он, заглядывая в журнал и отыскивая в нем фамилию товарища Станюковича. К. П. Станюковича.
На протяжении чтения и всего этого разговора, который походил на перепалку, я не переставал следить за Иваном Павлычем. Он по-прежнему сидел на приступке разобранной машины и вприщур поглядывал куда-то вверх, но не в потолок, а чуть ниже. По лицу его блуждала презрительная усмешка. Казалось, он осуждает и ученых, которые городят всякую околесицу (и за что людям деньги платят), и нас, механизаторов, принимающих эту околесицу за чистую монету.
Правда, однажды эта усмешка покинула лицо Ивана Павлыча. Это было именно в тот момент, когда Шишкин упомянул Туманность Андромеды и сообщил, что она удалена от Земли на 2 250 тысяч световых лет. Иван Павлыч стал серьезным и каким-то строго сосредоточенным. Наверно, он принял световые годы за обыкновенные, земные, и поверил — впервые за все время, пока Шишкин проводил политинформацию. Но потом и Иван Павлыч, видно, сообразил, о каких годах идет речь, и опять напустил на лицо презрительную усмешку, как бы надел маску, и держал ее до конца. А после того, как деловая перепалка кончилась, встал, потоптался на месте и тяжело-тяжело вздохнул:
— Такое время, когда день год кормит, а они… И медленно подался к выходу.
Мы были смущены, даже не то чтобы совсем смущены — иной реакции никто из нас от Ивана Павлыча не ожидал, а как-то, скорее, обескуражены в высшей степени. Все-таки руководитель… А руководитель, какой бы пост он ни занимал, должен быть если не лучше, то во всяком случае и не хуже того, как и что мы о нем думаем.
— Не понял старик. Эх-ха-ха, ничего не понял, — с сожалением заметил Шишкин.
Нам тоже было жаль Ивана Павлыча. Но мы ничего не сказали. Только потоптались, повздыхали и занялись каждый своим делом.
Но читатель, должно быть, рвется в космос… По правде сказать, я и сам испытываю нетерпение. И то взять в расчет — земные дела известны каждому, от них у нас бока не перестают болеть, а вот космос… Э-э, космос великая штука, читатель, в чем ты сам убедишься, если у тебя хватит терпения прочитать еще хотя бы десяток-другой страниц.
Скоро нам сообщили, что корабль почти готов и лампы приделаны, да не одна, а две или три, значит, насчет скорости и прочих удобств можно было не сомневаться, оставалось поехать туда, занять место в кабине, последний раз глянуть в иллюминатор и нажать на пусковой механизм. Так все и было, без каких-либо отклонений в сторону, но случилось это гораздо, гораздо позже… А пока я жил на Земле, встречался с людьми, работал, словом, занимался обычными, так сказать, земными делами.
Между прочим, статью Эриха Деникена (хлопцы все-таки упорно произносили его фамилию на русский манер) передали по местному радио. Ну, скажу вам, это была настоящая сенсация. После этого вряд ли у кого осталось сомнение, что мы, земляне, далеко, далеко не одиноки. Пошли прения. То тот, то другой так и рвутся к микрофону. Мне проходу не дают. «Как ты, Эдя? Скоро ли в космос, Эдя? Не задавайся, Эдя!» — подобные вопросы и советы сыпались со всех сторон.
Тренировки, особенно пробежки, прерывались буквально на каждом шагу. Бывало, только выбежишь за ворота, кто-нибудь уже поджидает тебя в переулке. Чаще всего это были огольцы во главе с Федькой, братом моего соседа и друга Семена.
— Бежит!
— Аж пятки сверкают!
— А далеко-то, я думаю, и не пробежит. Кишка тонка!
— Как же тонка, когда человек на другую планету летит! Эх ты-ы, голова!
И все в этом роде.
От приглашений отбою не было. Если бы я увлекался этим делом, то каждый день ходил бы пьян и нос в табаке. Но к спиртному я сызмальства не приучен.
Придешь, посидишь, ну выпьешь граммов двести-триста, и все, точка.
Впрочем, однажды все-таки засиделся. На проводах капитана Соколова, брата Фроси. Уезжал он, помнится, в первых числах августа. По этому поводу, то есть по случаю отъезда, тетка Пелагея устроила небольшой сабантуй. Пригласила Ивана Павлыча, его жену Макаровну, деда Макара, инженера Шишкина, моего соседа и друга Семена, механика Кузьму Петровича, ну и меня, разумеется. Без меня теперь какой сабантуй.
Когда я пришел, все были в сборе. И стол был уже накрыт. Капитан Соколов ходил по двору (стол накрыли на веранде) и потирал руки, как бы предвкушая что-то страшно забавное. Взгляды всех остальных были обращены на репродуктор, стоявший на подоконнике.
— Ну-ну, послушаем! — подмигнул мне капитан Соколов.
— Сейчас… Сию минуту… — Дед Макар, нарядный и торжественный, в рубахе-косоворотке, подпоясанной тоненьким витым пояском, приблизился к репродуктору, примостился рядышком и навострил уши.
И правда, не прошло и минуты, как из репродуктора посыпались знакомые слова. Передачу вел Андрюха, наш брат, тракторист, увлекавшийся всякой художественной самодеятельностью.
— Внимание, внимание! Передаем интервью с дедом Макаром. Не бойся, дед, это микрофон, он не кусается.
— А что его бояться? Мы, слава богу, и не такое видывали, и ничего… Ну иногда, конечно, случалось, чего греха таить. Жизнь — она ведь и есть жизнь, тут, что ни говори, а всяко бывает.
— А как насчет космоса, дед? Как, по-твоему, есть там что-нибудь или так, одна видимость?
— Да как сказать… Наверно, есть, коли все туда рвутся. И ученый этот… видать, голова!
— Какой ученый? Их много.
— Ученых много, а голова — одна! — Дед кашлянул — для солидности, должно быть, и продолжал: — Я так понимаю, там перво-наперво надо, это самое, правильную жизнь учредить. Когда я здоровкался за ручку с Михаилом, значит, Ивановичем, он так и сказал: «Перво-наперво, это самое…».