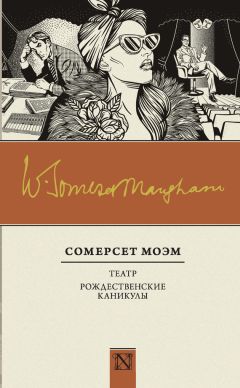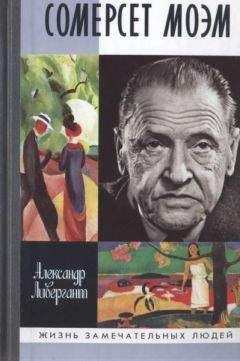– Наверно, так.
– Тогда давайте встанем и пойдем.
Когда горничная, которая принесла кофе, раздвинула занавеси, дневной свет, проникший в комнату со двора, показался им серым и унылым, как и в предыдущие утра; а выйдя на улицу, они поразились – погода вдруг переменилась. Было еще холодно, но ярко светило солнце, и высоко в небе плыли сияющие облака. Воздух морозно пощипывал, и это бодрило.
– Пойдемте пешком, – предложила Лидия.
В веселом живительном свете улица де Ренн уже не казалась такой запущенной, а серые ветхие дома не выглядели привычно неряшливыми и мрачными, но источали мягкое дружелюбие, будто сейчас, когда неожиданное солнышко одарило их своим вниманием столь же приветливо, как и величественные новые дома на другом берегу реки, они, словно старушки в стесненных обстоятельствах, почувствовали себя не такими заброшенными. Когда Чарли и Лидия переходили через площадь Сен-Жермен-де-Пре, по которой во все стороны спешили автобусы, трамваи, неистово мчались такси, грузовики и частные автомобили, Лидия взяла Чарли под руку; и точно влюбленные или бакалейщик с супругой, вышедшие прогуляться воскресным днем, они не спеша пошли по узкой улице де Сен, то и дело останавливаясь перед витриной какого-нибудь торговца картинами. Потом вышли на набережную. Тут парижский день открылся им во всей своей зимней красе, и Чарли даже ахнул от восторга.
– Вам нравится? – улыбнулась Лидия.
– Это будто картина Рафаэля. – Ему вспомнилась строчка стихотворения, что он прочел в Type: «Le vierge, le vivace et le bel aujourd’hui»[95].
Самый воздух искрился, хоть лови в горсть и пропускай между пальцами, словно струю фонтана. Чарли, привыкшему к туманным далям и мягкой лондонской дымке, он казался поразительно прозрачным. С изящной четкостью вырисовывались в нем здания, мост, парапет набережной, но, словно прорисованные чуткой рукой, линии были ласковые, смягченные. Ласков и цвет – неба, и облака, и камня, – цвет пастелей, какими работали художники восемнадцатого века; а обнаженные деревья, тонкие, розовато-лиловые ветви на голубом с изысканным разнообразием повторяли нежное плетение узора. Чарли не раз видел картины, на которых было изображено это самое место, и потому увиденное сейчас принял без удивления, но с любовью и пониманием узнавал; красота эта не потрясла его – она не была ему неведома, не озадачила неожиданностью, но исполнила знакомой радости, так может радоваться сельский житель, когда после долгих лет отсутствия вновь видит милую сердцу беспорядочно раскинувшуюся родную деревню.
– Ну не чудесно ли жить на свете? – воскликнул он.
– Чудесно быть молодым и таким восторженным, как вы, – сказала Лидия, слегка сжав ему руку, а если она едва сдержала слезы, Чарли этого не заметил.
Чарли хорошо знал Лувр, ведь каждый раз, когда его семья приезжала на несколько дней в Париж (чтобы Винития могла одеться у скромной портнихи, которая ничуть не уступала дорогостоящим мастерским на улицах Руаяль и Камбон), родители считали своим долгом повести туда детей. Лесли Мейсон не скрывал, что предпочитает новых художников старым.
– Но так или иначе знакомство с крупнейшими картинными галереями Европы – составная часть образования джентльмена, и если не можешь вставить словечко в разговоре о Рембрандте, Тициане и прочих, оказываешься в довольно глупом положении. И я не боюсь сказать, что лучшего гида, чем мама, вам не найти. У нее такая художественная натура, и она понимает, что к чему, и не будет тратить ваше время на всякую ерунду.
– Не стану утверждать, что ваш дед был великий художник, но он знал толк в живописи, – говорила миссис Мейсон не без самоуверенности человека, который безо всякого тщеславия сознает, что разбирается в своем предмете. – Это он меня научил всему, что я знаю об искусстве.
– У тебя, конечно, и у самой было на это чутье, – сказал муж.
Миссис Мейсон с минуту подумала.
– Да, пожалуй, ты прав, Лесли. У меня было чутье.
В ту пору было легче познакомиться с Лувром за недолгое время и с пользой для души, так как его еще не перестроили и большая часть картин, которые, по мнению миссис Мейсон, были достойны внимания ее детей, находились еще в Salon Саrrе[96]. Войдя в этот зал, они сразу же направлялись к леонардовской «Джоконде».
– Мне всегда кажется, прежде всего надо смотреть на это полотно, – говорила миссис Мейсон. – Оно создает настроение, с которым и следует ходить по Лувру.
Все четверо стояли перед картиной и почтительно взирали на безжизненную улыбку чопорной молодой женщины, изголодавшейся по плотской любви. После требуемых для созерцания мгновений тишины миссис Мейсон обернулась к мужу и детям. На глаза ее навернулись слезы.
– Нет у меня слов, не могу передать, что я всегда чувствую перед этим полотном, – со вздохом сказала она. – Леонардо был воистину Великий Художник. Я думаю, с этим все должны согласиться.
– Признаться, когда дело касается старых мастеров, я сужу отчасти как филистер, – сказал Лесли, – но в ней есть je ne sais quoi[97], что задевает вас за живое, это да. Как там у Патера[98], Винития? Он попал в самую точку, с этим не поспоришь.
С легкой загадочной улыбкой на губах миссис Мейсон негромко, трепетно повторила знаменитые строки, которые за два поколения до нее посеяли такую смуту среди молодых эстетов.
«Все тернии мира на ее челе, и полуопущены слегка усталые веки. Это сама красота во плоти, извлеченная из души, сотворенная толика за толикой сокровищница неведомых дум, причудливых мечтаний, утонченных страстей».
В благоговейном молчании слушали они ее. А она, договорив, весело сказала обычным голосом:
– А теперь идемте смотреть Рафаэля.
Но невозможно было пройти мимо двух больших полотен Паоло Веронезе, повешенных друг против друга на противоположных стенах.
– Стоит и на них глянуть, – сказала миссис Мейсон. – Ваш дед ставил их очень высоко. Веронезе, конечно, не отличается ни тонкостью, ни глубиной. Нет в нем души. Но у него бесспорно был дар композиции, и запомните, он лучше всех умеет гармонично и естественно расположить на полотне такое множество фигур. Тут следует восхищаться если не чем иным, то во всяком случае поистине могучей силой, которой он должен был обладать, чтобы писать такие огромные полотна. Но, по-моему, в них есть и нечто большее. Они дают ясное представление об изобильной, многокрасочной жизни того времени, о языческом, пронизанном любовью к земным усладам духе патрицианской Венеции в зените славы.
– Я часто пытался сосчитать, сколько фигур на картине «Брак в Кане», но всякий раз получалось другое число, – сказал Лесли Мейсон.