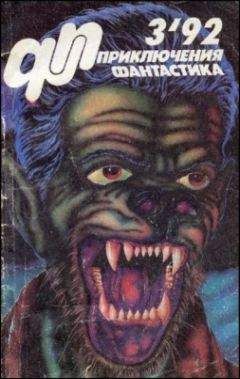— Фу, что за гадости ты говоришь! Слушать невозможно! — возмутилась стройненькая, тоненькая.
— Чего было, то и говорю! Я их, что ли, обдирала, ты чего на меня бочку катишь, стервозина?! Слушай и не возникай! Вот так вот всех и обошли! А нас-то волокут, мы идем… — страшно, наступить некуда — повсюду освежеванные дрыгаются, дергаются, какие и ползают, живые, не сразу вырубались. А эти твари прямо по ним когтищами, запросто, у них, видать, такое дело обычное, не привыкать. Меня еще раза три вырубало. Только у этих ящериц не забалуешь, сами знаете, только чего — коготь под задницу или еще куда, и аля-улю! только попрыгивай себе! По колено в кровище, меж тел ободранных… Ох, не приведи Господь! А потом за баб взялись, какие поплоше да постарше — головешку набок! Так-то вот. А тебе тут не нравится, видишь ли, цаца какая!
Иван подошел почти вплотную. Его отделяли от женщин три-четыре метра. Он выбрал очень удобную позицию — за свисающей с дерева ветвью, покрытой густейшей листвой. Он полностью был уверен, что его не заметят.
Женщины были ухожены и хороши, видно, их холили и лелеяли в этом садике. И какие бы оттенки не имела их кожа, кожа эта была гладкой, упругой, чистой, чуть поблескивающей, что говорило и об отменном питании, и о достатке витаминов, и, возможно, о массажах, душах и прочем, прочем. Блестящие пышные волосы — у одной иссиня-черные, у другой — белокурые, у третьей — русые с пепельным налетом, говорили о том же. Что же касалось их фигур, то у Ивана просто дух захватывало, он готов был стоять здесь до полного изнеможения и любоваться этими волнительными полными бедрами, стройными и сильными ногами, гибкими талиями, высокими и налитыми грудями, чуть покачивающимися при каждом движении. Он уже позабыл, где находится, позабыл про опасности и тревоги. Он был с ними, он ничего не видел кроме них. Чувство одиночества сразу пропало, исчезло, улетучилось. Он вглядывался в их живые ясные глаза, в открытые прекрасные лица, упивался их голосами, иногда и грубыми, резкими, но не менее влекущими от того. И он не обращал внимания на ожерелья из жемчуга. Да и откуда здесь мог взяться этот самый жемчуг! Он не видел алмазных нитей на их шеях, в волосах, не замечал тоненьких витых браслетиков, поблескивающих на запястьях и лодыжках. Ничего из всех этих и многих других украшений он просто не видел, точнее, видел, конечно же, но не в отдельности, не сами по себе они воспринимались им, а лишь как вполне естественное продолжение этих тел, рук, ног, как органичная часть кожи… Да, после всех передряг картина была отрадная.
И все-таки Иван сразу выделил одну — ту, что имела чуть охрипший голос и пепельно-русые волосы, ту, что вспомнила о семидесятом годе их столетия. Она была необыкновенна, она была сказочно хороша. И не той картиночной, журнальной смазливостью, что считается эталоном и нравится всем без исключения, а обаянием, женственностью, даже какой-то нескладностью, проглядывавшей в движениях, Иван внимательно слушал смуглянку, а смотрел на другую. И потому все у него мешалось в голове, все плыло перед глазами. Он даже не удивился, что не первым из землян оказался в этой самой непонятной «системе».
— И до вас тут сидели строптивые бабенки, — тянула свое смуглянка, — все возникали по каждому поводу-то им не то, это — не это! А толку, тра-тата-та! Повозникают, повозникают — и ломаются. А как созреют, видать, так и уводят! Вон, Марту же увели при вас, так?!
— Чего же тебя не трогают тогда, а? Ты ведь все сроки пересидела, в перестарках уже ходишь? — ехидно вопросила беленькая.
Смуглянка бросила в нее каким-то круглым желтым плодом, но промахнулась. Надула губки.
— Сама ты дура старая! — пробасила она после некоторой заминки. — Меня на десерт берегут! И они все втроем рассмеялись.
Иван тоже не смог сдержать улыбки, хотя в словах смугляночки был резон — она вполне годилась «на десерт».
— Во-о! Нет, вы только поглядите! — смуглянка снова махнула рукой, указывая на кого-то. — И эта жирная ящерица хохочет! Нет, я не выдержу этого!
Иван встрепенулся, он и не подозревал о присутствии здесь еще кого-то. Он сразу же опустился на траву, переполз к стволу соседнего деревца, всего на полтора метра. Осторожно встал. Высунул голову. И обомлел. И как он мог так опростоволоситься?? Еще бы немного — и он уткнулся носом в спину негуманоиду, точно такому же, как те, что встречали его возле коллапсара.
Негуманоид сидел спиной к Ивану, опираясь на беленький резной заборчик, забросив на него чешуйчатую длинную руку с морщинистыми пальцами, унизанными перстнями, кольцами. Он лениво шевелил пальцами, словно перебирая что-то невидимое, и отблески поигрывали на матово черных когтях. Был негуманоид спокоен и вял.
Лишь со второго взгляда Иван понял, что он немного отличался от тех бравых ребят, что разодрали его капсулу будто консервную банку. Те были крепкие, подтянутые несмотря на врожденную корявость. А этот растекся по сиденьицу жирной задницей, обтянутой сереньким комбинезоном. Бока у него свисали по обе стороны от ремня. Затылок был гол и шишкаст, лишь чешуйчатые темные пластины будто завесь шлема ложились на спину. Но и из-за них были видны обрюзгшие, висящие явно ниже подбородка щеки-бырла, усеянные бородавками и седыми толстыми волосками. Негуманоид был стар и мерзок. Судя по всему, его не интересовали женские прелести, да, наверное, и женщины как таковые его тоже совершенно не интересовали… И могли ли вообще эти «ящерицы» хоть как-то реагировать на земных женщин? Может, у них были свои понятия о привлекательности, красоте? Иван не стал ломать голову.
Он вдруг пожалел, что так бездарно использовал парализатор! Сейчас бы эта штуковина ох как пригодилась! Лезть в пояс за усыпителями одноразовыми не хотелось. Иван спрятался за ствол.
На какое-то мгновение толстяк обернулся, пошарил глазами в листве, зевнул с присвистом и сапом, отвернулся. Рожа его была на редкость противна: нос блямбой свисал ниже верхней губы, изо всех его четырех отверстий текло, глаза были не черны и бессмысленно-жестоки как у тех парней, а мутны, болезненны.
— Ишь ты, насторожился! — сказала смуглянка. — Услышал чего-то!
— Чучело — оно и есть чучело! — заключила бесповоротно беленькая. — Лан, ты чего загрустила?
Лана, русоволосая красавица, не ответила, она водила перед носом голубеньким цветочком, потом коснулась его губами, кончиком языка… и отбросила.
— Мерзость! Тут все мерзость! — проговорила она в сторону, ни к кому не обращаясь.
Она закинула руки за голову, и тяжелые шары грудей колыхнулись, спина прогнулась, талия стала еще тоньше… Не будь здесь этого гнусного вертухая-евнуха, Иван бы не удержался, подошел бы к женщинам, подошел бы к ней, необыкновенной и грустной Лане. Но не следовало забывать, что ты не у себя дома, не на Земле.