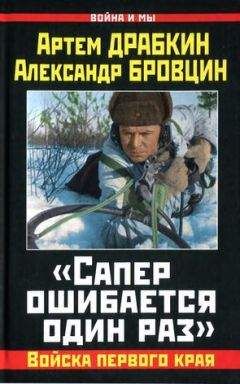Объект топтался на остановке; сглатывая тополиную горечь, человек Лодыгин осторожно прибавил резкости и на слух определил время.
Пока все шло как по-писаному. Объект крутил головой и продолжал топтаться на остановке.
Человек Лодыгин подумал, а не выкурить ли ему папиросу — если тихо курить в рукав, то дым уйдет под одежду и разжижится в лабиринтах складок.
Он осторожно переместил дыхательное устройство вбок и на его место пристроил белую палочку папиросы. Прикурил от фронтовой зажигалки, улыбнулся — сделалось хорошо.
И тут объект повел себя не по правилам. Обернулся в сторону сквера и подозрительно навострил взгляд.
Человек Лодыгин насторожился. Такой оборот дела его не устраивал. Так, подумал он, разгоняя маховик мысли. Для начала надо объект отвлечь. И выдохнул через тополиную трубочку маленькую серебряную горошину.
Та сделала в воздухе полукруг и точно над остановкой раскрылся белый куполок парашюта, а под ним на коротких стропах закачался маленький игрушечный человек в серебряном шлеме летчика.
На лицо он был вылитый космонавт Гагарин, хотя об этом первопроходце космоса мир узнает только через полгода. А сейчас это была легкая качающаяся фигурка, спускающаяся с небес на землю.
Я смотрел, как она кружится над проспектом, забыв обо всем на свете. Летчик мне улыбался, он махал мне ладошкой из целлулоида и шевелил целлулоидными губами.
И когда до моей руки ему оставалось совсем немного, в воздухе что-то произошло. На лицо летчика набежала тень, он скорчился, ноги подтянул к животу, в нем хрустнула невидимая пружина. И вдруг вместо маленького парашютиста в воздухе запели осколки, замелькали винтики и пружины и ударило горелой пластмассой.
Парашют вспыхнул и превратился в дым. Руку обдало жаром, и что-то острое и горячее упало в мою ладонь. Это была погнутая нашлепка со шлема: ровные буквы «СССР» и герб с шевелящимися колосьями.
Тем временем человек Лодыгин перебежками, в два приема, одолел расстояние между кучами и зарылся в теплую глубину.
«Нет, — печально подумал он, — с этим надо кончать. Не могу, не хочу, не бу…»
Я вздохнул: жалко было игрушечного парашютиста.
Черепаха Таня все тянула голову к скверу, к прелой куче с блестками бутылочного стекла.
— Видишь? Ничего нет, — успокоил я черепаху Таню, протыкая вязовым колышком пахучую горечь листьев.
И тут мы оба — я и она — услышали долгожданный звон.
Странный он был, печальный, с каким-то замогильным подвывом
— уж на что черепаха Таня была хладнокровное существо, а и она не выдержала, спрятала голову под низкий козырек панцыря.
Трамвай завернул с Садовой и, моргая пустыми фарами, нехотя поплелся вперед.
Вел он себя непонятно, трамваи так себя не ведут: то делал громкий рывок, то намертво примерзал к рельсам, а то начинал раскачиваться — опасно, из стороны в сторону, дрожа все мельче и мельче и судорожно дребезжа стеклами.
Я посмотрел на номер. Номер был почему-то тринадцатый. Удивиться я как следует не успел, потому что водил глазами — высматривал по сторонам Женьку. Я еще продолжал надеяться, что Женька все-таки подойдет.
Вагон с несчастливым номером остановился напротив нас. Всхлипнула гармошка дверей, резиновые мехи сложились и улица откликнулась эхом.
Из трамвая никто не вышел, а входить в него было некому. Я вздохнул, надо было возвращаться домой. Сейчас вагончик уедет, помашу ему на дорожку ручкой и тоже тронусь — поздно уже.
Но трамвай будто в землю врыли. Или кончился в проводах ток. И людей в трамвае было не видно, лишь неясно маячила впереди кукольная фигурка вагоновожатого. Двери были раскрыты настежь, и я решил заглянуть. Подошел, залез на ступеньку, сунул краешек глаза внутрь. И почувствовал толчок в спину. Двери за мной закрылись.
— Все, пионер, приехали. Конечная остановка, — сказал мне знакомый голос.
И день превратился в ночь.
В ночи горели два спичечных неподвижных глаза. Сколько было времени, я не знал. Пахло камнем, сырой землей и почему-то нашей школьной столовой.
Два глаза пододвинулись ближе. Я протянул к ним руку и почувствовал шершавую кожу. Я узнал черепаху Таню.
— Где мы? — спросил я ее и испугался своего голоса. Было в нем что-то чужое, но Таня его узнала и лизнула меня ниточкой языка.
Я взял ее на ладонь и погладил островок панцыря. Вдвоем было не так страшно — даже в этой неживой темноте.
Я прислушался — где-то пела вода. Значит, жизнь в этом мире есть.
— Будем искать выход. Идем, — сказал я веселым голосом, чтобы она не думала, что я трушу.
И мы пошли: она — у меня в руке, я — растопыренной пятерней тыча наугад в темноту.
Скоро мы увидели свет: маленький, чуть заметный, будто его прятали в кулаке.
Запахло водой и ветром.
Мне сразу сделалось хорошо, и я зашагал быстрее.
Когда мы дошли до света, радости моей поубавилось. Перед нами была грубая гранитная стенка и бойница величиной с носовой платок. В бойницу летели брызги и таяли на железных прутьях, которые ее сторожили.
За стеной плескалась вода. Фонтанка, я узнал ее сразу — по голосу ленивой воды. А свет, к которому мы пришли, был желтой тенью зажженных на берегу фонарей.
Я даже определил место, где мы сейчас находились: примерно, между Климовым переулком и въездом на Египетский мост.
Моста отсюда было не разглядеть — слишком узкой была дырка в граните и мешали отсветы на воде. Египет тоже скрывал вечерний туман и дымка береговых тополей.
Что делать, размышлял я. Стоять здесь, смотреть на Фонтанку и ждать случайного катера? А дальше? Ну будет этот случайный катер, ну увидят с него за решеткой чью-то бледную тень лица, ну, допустим, даже и выслушают. Но какой идиот поверит во всю эту историю с чемоданами? Я бы на их месте ни за что не поверил.
Только теперь мое место здесь, в этой каменной мышеловке, и такое это место чужое, что покуда не вернулся мой давешний трамвайный знакомый, надо отсюда как-нибудь выбираться. И чем скорее, тем лучше.
И мы отправились обратной дорогой на поиски своего спасения.
Мы шли, спотыкались о какие-то корни и скользкие железные трубы, перешагивали в темноте ямы, в них светилась и шевелилась тьма, закрывали руками голову от хохочущих летучих существ, бежали, падали, поднимались, насмерть разбивались о стены, плакали в загаженных тупиках, и когда сил уже не осталось, а осталось только лечь умереть, я увидел высоко над собой маленькую сиротливую звездочку, висящую на безлюдном небе.
Мы стояли на дне колодца, из которого выпили воду; его стены были сложены из больших бетонных колец, и наверх, вделанные в бетон, вели узкие металлические ступени.