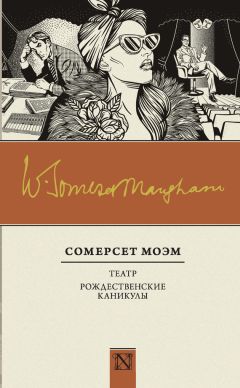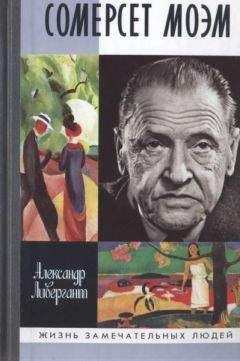– И ничего другого вы в этом не видите? Я просто в отчаянии.
– В отчаянии? – удивленно воскликнул Чарли. – Из-за каравая хлеба с бутылью вина? Хотя, конечно, прекрасно написано.
– Да, вы правы, написано прекрасно; написано с любовью и состраданием. Это не просто каравай хлеба и бутыль вина, это хлеб жизни и кровь Христова, но не укрытые от тех, кто томится голодом и жаждой, и скупо раздаваемые священниками по торжественным случаям. Это ежедневная пища страждущих. Эта картина такая скромная, безыскусственная, человечная, исполненная сочувствия. Это вино и хлеб бедняков, которым только и нужно, чтобы их оставили в покое, позволили свободно трудиться и есть свою простую пищу. Это крик презираемых и отверженных. Она говорит вам, что, как бы ни были грешны люди, в душе они добры. Этот хлеб и вино – символы радостей и горестей смиренных и кротких. Они не просят милости и любви вашей; они вам говорят, что они из той же плоти и крови, что и вы. Они говорят вам, что жизнь коротка и трудна, а в могиле холодно и одиноко. Это не просто хлеб и вино. Это тайна жребия человека на земле, его тоски по толике дружбы, толике любви, тайна его безропотной покорности, когда он видит, что даже и в этом ему отказано.
Голос Лидии дрожал, и вот по щекам покатились слезы. Она нетерпеливо смахнула их.
– И разве не чудо, что благодаря таким простым предметам, благодаря беспредельной чуткости истинного художника этот странный и милый старик, движимый своим отзывчивым сердцем, сотворил красоту, что надрывает душу? Словно почти невольно, сам того не сознавая, он старался показать, что из боли, отчаяния, жестокости, из всего рассеянного в мире зла человек может сотворить красоту – было бы только у него довольно любви, довольно сочувствия.
Лидия умолкла и долго стояла, глядя на маленькое полотно. Смотрел и Чарли, но с недоумением. Да, натюрморт очень хорош; прежде Чарли удостаивал его лишь мимолетного взгляда и порадовался, что Лидия привлекла к картине его внимание, она и вправду на свой лад довольно трогательна, но прежде он, разумеется, не видел в ней всего того, что видит Лидия. Странная она, неуравновешенная! И как неловко, что она плачет прямо здесь, в галерее, у всех на виду; с этими русскими и правда попадаешь в преглупое положение; но кто бы мог подумать, что картина способна на кого-то так подействовать? Ему вспомнился рассказ матери о друге ее отца, студенте, который, впервые увидев «Одалиску» Энгра, потерял сознание, но то было давным-давно, в девятнадцатом веке, тогда люди были так романтичны, так чувствительны. Лидия повернулась к нему, на губах ее сияла улыбка. Поразительно, как внезапны у нее переходы от слез к смеху.
– Теперь пойдем? – предложила она.
– А другие картины вы смотреть не хотите?
– Зачем? Одну картину я посмотрела. Мне спокойно и отрадно. Чего ради смотреть что-то еще?
– Ну хорошо.
Престранно таким вот образом посещать картинную галерею. Ведь они даже не взглянули ни на Ватто, ни на Фрагонара. Мама непременно спросит, видел ли он «Паломничество на остров Киферу». Ей кто-то сказал, что картину отреставрировали, и она захочет знать, как теперь смотрятся краски.
Они кое-что купили, а потом обедали в ресторане на набережной на другой стороне Сены, и Лидия, как обычно, ела с отменным аппетитом. Ей нравилось, что вокруг много народу, нравился шум, оживленное уличное движение. Она была отлично настроена. Словно недавняя буря чувств омыла ей душу, и теперь она с милой веселостью болтала о пустяках. Но Чарли был задумчив. Он не так-то легко преодолевал охватившее его беспокойство. Обычно Лидия не замечала его настроения, но сейчас слишком ясно было по его лицу, что у него сердце не на месте, и это наконец дошло до нее.
– Вы почему такой молчаливый? – с доброй, сочувственной улыбкой спросила она.
– Все думаю. Понимаете, я всю жизнь интересуюсь искусством. Мои родители натуры артистические, кое-кто может даже счесть их истинными интеллектуалами, и они всегда старались привить нам с сестрой вкус к искусству; и, по-моему, им это удалось. Но как подумаю, сколько я затратил труда, сколько возможностей мне предоставлялось, а понимаю я, похоже, куда меньше вас, и мне становится не по себе.
– Но я ничего не смыслю в искусстве, – рассмеялась Лидия.
– Но мне кажется, вы превосходно его чувствуете, а в искусстве все определяет чувство. Нельзя сказать, что картины меня не радуют. Они доставляют мне удовольствие, и еще какое.
– Напрасно вы тревожитесь. Вполне естественно, что вы смотрите на картины не так, как я. Вы молоды, здоровы, счастливы, состоятельны. Вам не откажешь в уме. Для вас картины – еще одно удовольствие среди множества других удовольствий. Они согревают вас, приносят удовлетворение. Пройтись по картинной галерее для вас – способ приятно провести часок. Что еще вы можете от себя требовать? Но, понимаете, я всегда была бедна, часто голодна и порой ужасно одинока. Еда, питье, человеческое общение – все это было для меня роскошью. Когда я работала и хозяйка своими придирками доводила меня до отчаяния, я в обед, бывало, сбегаю в Лувр, и хозяйкина брань забывается. И когда умерла мама и я осталась одна на свете, Лувр был мне утешением. В те долгие месяцы перед судом, когда Робер сидел в тюрьме, а я ждала ребенка, если бы не возможность ходить в Лувр, где никто меня не знал, никто не пялил на меня глаза и где я оставалась наедине со своими друзьями, я бы, наверно, сошла с ума и покончила с собой. Там я отдыхала и успокаивалась. И набиралась мужества. Мне помогали не столько огромные прославленные шедевры, но картины поменьше, поскромнее, на которые никто не обращает внимания, и я чувствовала, им приятно, что я на них смотрю. Я чувствовала, ничто, в сущности, не имеет значения, ведь все проходит. Терпение! Терпение! Вот чему я там научилась. И я чувствовала, несмотря на все несчастья, ужас, жестокость мира, существует нечто такое, что помогает все вынести, нечто куда значительнее и важнее всех бед и тягот – дух человеческий и творимая им красота. Что же удивительного, если небольшое полотно, которое я показала вам утром, так много для меня значит?
Чтобы полнее насладиться хорошей погодой, они пошли пешком по бульвару Сен-Мишель, а дойдя до конца, направились в Люксембургский сад. Там они сели и, лишь изредка перекидываясь словечком-другим, рассеянно поглядывали на кативших коляски нянюшек, которые, увы, уже не носили чепцы с длинными шелковыми лентами, как в предыдущем поколении, на старушек в черном, которые неспешно вели детишек, и на пожилых джентльменов, чьи лица, наполовину скрытые плотными шарфами, изборождены были глубокими морщинами, – погруженные в свои мысли, они прогуливались взад-вперед; с добрым чувством смотрели на длинноногих мальчишек и девчонок, которые резвились на дорожках, а когда мимо прошли двое юных студентов, им стало любопытно, о чем эти двое так серьезно рассуждают. Казалось, тут не городской парк, а частное владение, открытое для жителей левого берега Сены, и во всем чувствовалась трогательная интимность. Но прохладные лучи угасающего солнца придавали всему еще и печаль – в парке, отделенном от суеты большого города железной решеткой, царил особый дух некоей нереальности, и казалось, будто и старики, прогуливающиеся по песчаным дорожкам, и детвора, чьи крики сливались в веселый гул, это лишь тени, что совершают призрачные прогулки или играют в призрачные игры, а в сумерки все они растают, как дым сигареты в надвигающейся тьме. Становилось уже очень холодно, и Чарли с Лидией, точно старые друзья, молча отправились в гостиницу.