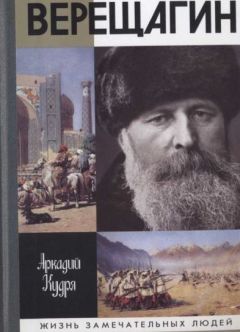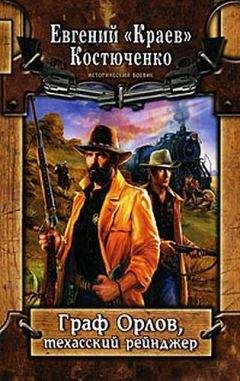«Девяносто три!» – говорит Верещагин про себя. А вслух говорит: «Думаете, я хочу на ней жениться? Ошибаетесь. У меня совсем другие планы. Если хотите, могу немножко рассказать…»
«Нам твои планы известны, – перебивает дядя Валя и смотрит на Верещагина так, что даже дурак понял бы: финтить тут нечего, не на того напал, вокруг пальца не обведешь, не лыком шит. – Я ее увезу, ясно? – продолжает дядя Валя. – На все лето. Она перебесится и выйдет замуж, придет срок, за кого положено. Если старые с молодыми начнут путаться, вся целесообразность жизни перевернется шиворот навыворот, не разберешь, где вчера, а где сегодня. У нее своя жизнь, у тебя – своя. Как ты будешь жить – меня не касаемо. Хочешь, игрушки за три тысячи покупай, хочешь, на какой-нибудь разжене женись, это забота не моя. Ты мне никто, а Тина – племянница. Я на ее мать, чтоб выучилась, все здоровье угробил, она мне знаешь во что встала? В туберкулез легких, вот во что! И все ж недоглядел, проморгал в конце, пустил на самотек, это моя вина, что у сестры жизнь не сложилась. Так я хоть за племянницу постою, остаток здоровья угроблю, а спасу. Поживет в деревне, вольным воздухом надышится, вернется – тебя и не вспомнит. Ты не обижайся, что не вспомнит, – это закон природы. В ней просто соки играют, в любой девице весной соки играют. Ты меня прости за малокультурное выражение, но я тебе скажу: у каждой сучки весной течка. Закон природы. Я свою Машку весной на улицу не выпускаю, так она, тварь, что делает? Она пузом по полу елозит, стонет, урчит, жалко смотреть, но я жене твердо приказываю: не пускай, и все. К осени проходит. Веселая становится. Все проходит, дорогой товарищ».
Верещагин чуть не сбивается со счета. «Странная у вас дочь», – говорит он.
«Кошка это, – поправляет дядя Валя. – Я тебе про кошку рассказывал, не хочу, чтоб котята были, хлопоты с ними – никто не берет, а топить жалко».
«Извините, – извиняется Верещагин – со смущением, но счет не прерывает: сто девятнадцать, сто двадцать, сто двадцать один… – Маша – человеческое имя, – объясняет он свою ошибку. – Извините, что я плохо подумал о вашей дочери».
«Нет у меня дочки, – отвечает на это дядя Валя. – Сын есть. Но такой, что как плохо о нем ни подумай, все мало будет».
«Ага! – Верещагин внезапно оживляется. Он улавливает закономерность, а его хлебом не корми, дай только уловить закономерность. Он говорит: – Вы сестру воспитывали, и, сами признаете, неудачно. Сына, как я понимаю, тоже… Теперь беретесь за Тину?»
Дядя Валя поднимается с дивана, всем своим видом показывая, что такое направление разговора он отвергает решительнейшим образом. «Я все сказал, – говорит он. – Тину ты, значит, не разыскивай. Где живу, тебе неизвестно, а узнаешь и письма писать станешь, так Тина их не получит. Порву на четыре части». – «С какой стати письма? – оскорбляется Верещагин. – Вы со своей сестрой ведете себя странно. То она звонит: Тина уже уехала, то вы являетесь: оказывается, только собираетесь увозить… Зачем вы ставите меня в известность? Почему считаете нужным? Я вам говорил: у меня другие заботы. Вашей племяннице брак с моей стороны не грозит. Так что можете даже не увозить ».
Всю эту тираду дядя Валя пропускает мимо ушей. «В сентябре она вернется, – говорит он. – Будешь к ней приставать, я в твою организацию подам заявление, на самотек не пущу. Я таких, как ты, знаю, с одним уже в жизни встречался, хоть и заочно. Так что темнить нечего, давай расстанемся по-хорошему, я тебя обо всем предупредил».
И с этими словами дядя Валя идет к выходу, Верещагин за ним, в руках у него дроссель, от дросселя – проволока к катушке, которая вслед за дядей Валей и Верещагиным выкатывается в прихожую.
«Все, с чем я к тебе шел, я тебе сказал», – подводит окончательный итог разговору дядя Валя и начинает надевать ботинки – наклоняется, пыхтит.
«А говорили – мимо шли», – уязвляет Верещагин.
Провод он пока не наматывает, остановился на сто сорок четвертом витке, держит эту цифру в уме.
Дядя Валя верещагинскую иронию пропускает мимо ушей – обувается.
«Лучше б не снимали ботинок, – говорит Верещагин. – Насколько быстрее смогли бы уйти».
И опять дядя Валя иронии не замечает. Он вообще замечал в жизни только то, что могло пригодиться в практической деятельности. А что не могло – на то он и не смотрел. Незачем.
Он строил свою жизненную философию из истин, имевших сходство с обрывками бечевки, болтиком, гвоздем. За истинами другого рода он не наклонялся, идя по дороге жизни.
Так поступает большинство людей. А кто иначе, тот беспрестанно страдает.
Дверь захлопнулась, Верещагин целиком отдается счету: сто сорок пять, сто сорок шесть, сто сорок семь, сто сорок восемь, сто сорок девять, сто пятьдесят, сто пятьдесят один, сто пятьдесят два, сто пятьдесят три, сто пятьдесят четыре…
…Триста пятьдесят семь!
173
…Тысяча девятьсот тридцать!
174
Все у Верещагина готово. Все!
175
А вот история о короле и гордых людях, которую автор обещал рассказать. О ней упоминается в главе, где описан случай, как Верещагин выпустил из рук птичку, боясь задушить ее.
В некотором царстве, в некотором государстве жил король. В свободное от королевских дел время он садился на любимого арабского скакуна и ездил по никому не подвластным степям, окружавшим его могучее королевство. Ему нравилось оглядывать ничье пространство; запрокинув голову, смотреть в ничье небо с ослепительным ничьим солнцем посередине. «Как горделивы легкие облака, – думал он. – Но они проплывают мимо… Как величествен горизонт! Но до него не доскачешь и в три жизни… Как прекрасен, должно быть, полет жаворонка, но его даже не видно, лишь гордая песня доносится из поднебесья…» Встречая нищего, король бросал ему золотую монету и брезгливо отворачивался, когда тот в порыве благодарности целовал его пыльный сапог. «Как надоело видеть подобострастные лица!» – тоскливо думал король. Он имел все – и золото, и серебро, бриллианты, сапфиры, могучих воинов и прекрасных женщин, даже меч из божественного металла орихалк и тот был у короля. Не было только – во всем его королевстве – гордого человеческого лица. То есть, может быть, подданные и гордились друг перед другом своим богатством или заслугами, но в присутствии короля их лица выражали лишь униженность и покорность. А королю очень хотелось видеть вокруг не только роскошь, но и гордость. Он задыхался от раболепия подданных.
Поэтому и ездил в ничьи степи смотреть на гордые облака, на ускользающую линию горизонта, слушать поднебесную песню жаворонка. Он тосковал по гордости, которая прекраснее золота, власти и даже женской красоты.