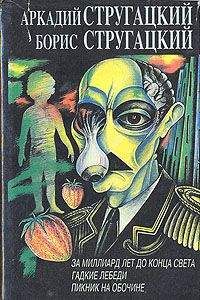– Ну и как поживает старина Эрнест? – спрашиваю.
Он оглянулся на стойку и говорит:
– По-моему, он неплохо поживает. Я бы с ним поменялся.
– А я бы нет, – говорю. – Выпить хочешь?
– Спасибо, я не пью.
– Ну, закури, – говорю.
– Извините, но я и не курю тоже.
– Черт тебя подери! – говорю я ему. – Так зачем тебе тогда деньги?
Он покраснел, перестал улыбаться и негромко так говорит:
– Наверное, – говорит, – это только меня касается, господин Шухарт, правда ведь?
– Что правда, то правда, – говорю я и наливаю себе на четыре пальца. В голове, надо сказать, уже немного шумит, и в теле этакая приятная расслабленность: совсем отпустила Зона. – Сейчас я пьян, – говорю. – Гуляю, как видишь. Ходил в Зону, вернулся живой и с деньгами. Это не часто бывает, чтобы живой, и уж совсем редко, чтобы с деньгами. Так что давай отложим серьезный разговор…
Тут он вскакивает, говорит «извините», и я вижу, что вернулся Дик. Стоит рядом со своим стулом, и по лицу его я понимаю – что-то случилось.
– Ну, – спрашиваю, – опять твои баллоны вакуум не держат?
– Да, – говорит он. – Опять.
Садится, наливает себе, подливает мне, и вижу я, что не в рекламации дело. На рекламации он, надо сказать, поплевывает – тот еще работничек.
– Давай, – говорит, – выпьем, Рэд. – И, не дожидаясь меня, опрокидывает залпом всю свою порцию и наливает новую. – Ты знаешь, – говорит он, – Кирилл Панов умер.
Сквозь хмель я его не сразу понял. Умер там кто-то и умер.
– Что ж, – говорю, – выпьем за упокой души…
Он глянул на меня круглыми глазами, и только тогда я почувствовал, словно все у меня внутри оборвалось. Помнится, я встал, уперся в столешницу и смотрю на него сверху вниз.
– Кирилл?!. – А у самого перед глазами серебряная паутина, и снова я слышу, как она потрескивает, разрываясь. И через это жуткое потрескивание голос Дика доходит до меня как из другой комнаты:
– Разрыв сердца. В душевой его нашли, голого. Никто ничего не понимает. Про тебя спрашивали, я сказал, что ты в полном порядке…
– А чего тут не понимать? – говорю. – Зона…
– Ты сядь, – говорит мне Дик. – Сядь и выпей.
– Зона… – повторяю я и не могу остановиться. – Зона… Зона…
Ничего вокруг не вижу, кроме серебряной паутины. Весь бар запутался в паутине, люди двигаются, а паутина тихонько потрескивает, когда они ее задевают. А в центре мальтиец стоит, лицо у него удивленное, детское – ничего не понимает.
– Малыш, – говорю я ему ласково, – сколько тебе денег надо? Тысячи хватит? На! Бери, бери! – Сую я ему деньги и уже кричу: – Иди к Эрнесту и скажи ему, что он сволочь и подонок, не бойся, скажи! Он же трус!.. Скажи и сейчас же иди на станцию, купи себе билет и прямиком на свою Мальту! Нигде не задерживайся!..
Не помню, что я там еще кричал. Помню, оказался я перед стойкой, Эрнест поставил передо мной бокал освежающего и спрашивает:
– Ты сегодня вроде при деньгах?
– Да, – говорю, – при деньгах…
– Может, должок отдашь? Мне завтра налог платить.
И тут я вижу – в кулаке у меня пачка денег. Смотрю я на эту капусту зеленую и бормочу:
– Надо же, не взял, значит, Креон Мальтийский… Гордый, значит… Ну, все остальное – судьба.
– Что это с тобой? – спрашивает друг Эрни. – Перебрал малость?
– Нет, – говорю. – Я, – говорю, – в полном порядке. Хоть сейчас в душ.
– Шел бы ты домой, – говорит друг Эрни. – Перебрал ты малость.
– Кирилл умер, – говорю я ему.
– Это который Кирилл? Шелудивый, что ли?
– Сам ты шелудивый, сволочь, – говорю я ему. – Из тысячи таких, как ты, одного Кирилла не сделать. Паскуда ты, – говорю. – Торгаш вонючий. Смертью ведь торгуешь, морда. Купил нас всех за зелененькие… Хочешь, сейчас всю твою лавочку разнесу?
И только я замахнулся как следует, вдруг меня хватают и тащат куда-то. А я уже ничего не соображаю и соображать не хочу. Ору чего-то, отбиваюсь, ногами кого-то пинаю, потом опомнился – сижу в туалетной, весь мокрый, морда разбита. Смотрю на себя в зеркало и не узнаю, и тик мне какой-то щеку сводит, никогда этого раньше не было. А из зала – шум, трещит там что-то, посуда бьется, девки визжат, и слышу – Гуталин ревет, как белый медведь во время случки: «Покайтесь, паразиты! Где Рыжий? Куда Рыжего дели, дьяволово семя?..» И полицейская сирена завывает.
Как она завыла, тут у меня в мозгу все словно хрустальное сделалось. Все помню, все знаю, все понимаю. И в душе уже больше ничего нет – одна ледяная злоба. Так, думаю, я тебе сейчас устрою вечерочек. Я тебе покажу, что такое сталкер, торгаш ты вонючий. Вытащил я из часового карманчика «зуду», новенькую, ни разу не пользованную, пару раз сжал ее между пальцами для разгона, дверь в зал приоткрыл и бросил ее тихонько в плевательницу. А сам окошко в сортире распахнул – и на улицу. Очень мне, конечно, хотелось посмотреть, как все это получится, но надо было рвать когти. Я эту «зуду» переношу плохо, у меня от нее кровь из носа идет.
Перебежал я через двор и слышу: заработала моя «зуда» на полную катушку. Сначала завыли и залаяли собаки по всему кварталу – они первыми «зуду» чуют. Потом завопил кто-то в кабаке, так что у меня даже уши заложило на расстоянии. Я так и представил себе, как там народишко заметался, – кто в меланхолию впал, кто в дикое буйство, кто от страха не знает, куда деваться… Страшная штука – «зуда». Теперь у Эрнеста не скоро полный кабак наберется. Он, сволочь, конечно, догадается про меня, да только мне наплевать… Все. Нет больше сталкера Рэда. Хватит с меня этого. Хватит мне самому на смерть ходить и других дураков этому делу обучать. Ошибся ты, Кирилл, дружок мой милый. Прости, да только, выходит, не ты прав, а Гуталин прав. Нечего здесь людям делать. Нет в Зоне добра.
Перелез я через забор и побрел потихоньку домой. Губы кусаю, плакать хочется, а не могу. Впереди пустота, ничего нет. Тоска, будни. Кирилл, дружок мой единственный, как же это мы с тобой? Как же я теперь без тебя? Перспективы мне рисовал, про новый мир, про измененный мир… А теперь что? Заплачет по тебе кто-то в далекой России, а я вот и заплакать не могу. И ведь я во всем виноват, паразит, не кто-нибудь, а я! Как я, скотина, смел его в гараж вести, когда у него глаза к темноте не привыкли? Всю жизнь волком жил, всю жизнь об одном себе думал… И вот в кои-то веки вздумал облагодетельствовать, подарочек поднести. На кой черт я вообще ему про эту «пустышку» сказал?.. И как вспомнил я об этом – взяло меня за глотку, хоть и вправду волком вой. Я, наверное, и завыл – люди от меня что-то шарахаться стали, а потом вдруг словно бы полегчало – смотрю: Гута идет.
Идет она мне навстречу, моя красавица, девочка моя, идет, ножками своими ладными переступает, юбочка над коленками колышется, из всех подворотен на нее глазеют, а она идет как по струночке, ни на кого не глядит, и почему-то я сразу понял, что это она меня ищет.