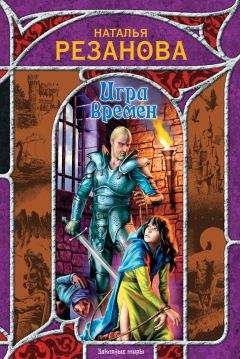– И не гневайся на то, что я говорил тебе вчера, – добавил он. – На дух я вашу сестру не выношу. Ничего я к тебе не имею, только все вы, монашки, гадины ядовитые.
– За что ж такая немилость? – спросила настоятельница.
– Значит, есть причина. Или вы здесь, в глуши, про большой мятеж не слышали?
– Как не слыхать!
– Значит, мало слышали, потому что все кругом говорили, что в северных краях, где мне пришлось порядком потрудиться, заправляла женщина по прозвищу Монашка. Под началом у нее было до трех тысяч головорезов, и она вела и направляла их своими советами, коварными и злоехидными. Подлинного имени ее так и не дознались, известно только, что она и в самом деле носила монашескую одежду.
– Конечно же, она лишь выдавала себя за монашку, но не была ею! – воскликнула настоятельница. – Господь не допустил бы такого духовного извращения.
– Была или не была, мне безразлично. Говорю, что слышал от многих.
– И… что с ней сделали?
– Сгинула она без следа, когда рыцарское ополчение громило шайки мятежников. Должно быть, получила свое… – Тут судья Регимбальд снова с чувством выругался и сплюнул.
Днем солдаты Регимбальда ушли, а назавтра раны его вновь воспалились, и дурной нрав судьи опять показал себя. Он призвал настоятельницу и долго допрашивал ее, много ли монахинь в обители и сколько среди них молодых. Настоятельница, собравшись с духом, отвечала, что монахинь здесь ровным счетом двадцать семь, и большинство из них живет в обители сызмальства, и поелику люди нынче утеряли благочестие и не обручают дочерей Христу, молодых среди них почти что нет, а все, кто есть, имеют разные телесные недуги и калечества, а ему, Регимбальду, на одре болезни лучше бы оставить грешные мысли…
– Не твое дело, старая ведьма, – перебил ее Регимбальд, – сам знаю, что творю… – Тут кровь прилила ему к голове, и стало ему дурно, и пришлось вновь прибегнуть к помощи целебных трав.
Так прошло еще несколько дней, и здоровье Регимбальда не улучшалось, весь он опух, и на его как бы пораженном водянкою теле появлялись новые язвы, старые же не заживали. Настоятельница пришла к выводу, что из-за дурно, как она сразу заметила, наложенных после падения повязок раны не уберегли от грязи, и теперь Регимбальда терзает антонов огонь. Но сам Регимбальд считал иначе. Изредка ему удавалось забыться сном, но большую часть времени он, изводимый болями, пребывал в бодрствовании и постоянно повторял, что его извели злым колдовством. Тщетно заверяла его мать-настоятельница, что входы и выходы тщательно охраняются, что лекарства и травы она сама пробует, прежде чем пускать их в дело, а вера в колдовство есть не что иное, как суеверие. Регимбальд и сам подтвердил, что кроме матери-настоятельницы и той умудренной летами почтенной сестры, что приходила ее сменить, в келью никто не заходит, но злые чары, вскричал он, замков и преград не боятся. И, противореча себе, приказал поставить еще часового у входа в жилые кельи. Со стесненным сердцем настоятельница подчинилась ему. Хотя она не была суеверна, но слова о том, что в ее обители творится злое, запали ей в душу, и в самой церкви, когда слаженный хор монахинь сменял дрожащий голос отца Бодуэна, ей на ум приходило вдруг, что в своих просторных одеяниях и в покрывалах, спущенных на лицо, сестры покажутся чужому глазу вовсе неотличимыми… Добавочная охрана не принесла облегчения Регимбальду. Но помраченное болями сознание его все еще бодрствовало. И в одну из минут, когда приступы оставляли его, он приказал послать за матерью-настоятельницей и спросил ее, обучена ли она грамоте, и она отвечала, что обучена.
– Своего писца я, по твоему совету, отослал, – сказал Регимбальд, – так что ты послужишь мне писцом. Пусть принесут чернила, перо и пергамент, и ты напишешь то, что я продиктую, и горе тебе, если ты посмеешь изменить в моем письме хотя бы слово! Клянись именем Христовым!
Сам Регимбальд, как большинство благородных людей, грамоты не знал, для того в его звании имелись писцы и секретари. И, когда принесли все требуемое, он продиктовал послание к правителю нашего края. И говорилось там, что монахини нашей обители – убивицы и пособницы мятежников и травят его, Регимбальда, либо ядом, либо колдовством, либо и тем, и другим – короче, весь бред, которым донимал он настоятельницу, решил довести он до высокого слуха правителя. Но затем он требовал, дабы в обитель прислали солдат, которые бы учинили обыск в ее стенах, а помимо того, привезли орудия пыток, и буде потребно, пытать монахинь огнем, водой и раскаленным железом, покуда те не сознаются во всем, особливо кто подтолкнул их к злодеяниям и каковы их связи с северными бунтовщиками. И, хотя рука настоятельницы дрожала, она ничего не посмела изменить в ужасном письме, ибо поклялась великою клятвой. И, окончив диктовать, Регимбальд потребовал, чтобы мать-настоятельница прочла написанное, и, убедившись, что все написано в точности, как он того желал, приказал позвать одного из своих людей и велел ему взять письмо и запечатать в его присутствии, сняв с руки Регимбальда перстень с печаткой. Так и был сделано, а затем Регимбальд велел ему немедля скакать к правителю.
– Поспешай, мерзавец! – сказал он. – Я крепок телом, и, Бог даст, еще можно успеть…
Все это время мать-настоятельница, ломая в отчаянии руки, ходила по коридору лечебницы. Сама она не боялась мучений, но мысль о том, что ожидает монастырь, повергала ее в ужас. И, пока она молилась, уповая единственно на милосердие Господне, примерещилось ей, что в коридоре мелькнул краешек монашеского одеяния. Побуждаемая неясным чувством, она подбежала к келье Регимбальда и заглянула внутрь. Больной лежал как бы в сонном забытьи, скрестив руки поверх одеяла. Мать-настоятельница в задумчивости замерла у входа, и тут снова, как в бесовской игре воображения, послышались ей шаги. Не медля ни минуты, бросилась она в ту сторону, куда, мнилось ей, направлялся неведомый пришлец, – и оказалась прямо перед заколоченной дверью. Переведя дыхание, она попыталась отломать доску, держащую дверь, но тщетно – доски были прибиты прочно.
Наутро началась у Регимбальда неудержимая кровавая рвота, и продолжалось это около двух суток. Все указанное время, терзаемая мыслию о том, что одной ей было известно, мать-настоятельница так и не решилась смутить покой сестер известием о предстоящих им крестных муках. Но вечером второго дня велела одной монахине кликнуть к ней сестру Схоластику. Та со смущением ответила, что названную сестру никто со вчерашнего дня не видел, а поскольку сестра Схоластика часто бывает с утра до вечера занята по хозяйству, никто этим особо не обеспокоился, но, если матери-настоятельнице угодно, они поищут хорошенько… Слабым движением руки настоятельница отпустила сестру.