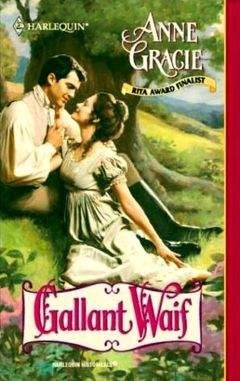Естественно, ни рука, ни зуб, будучи удаленными, больше не являлись частью человека. Хотя, если разобраться, все это было весьма неоднозначно.
"В какой именно момент, - задавался вопросом Трелковский, - человек перестает быть личностью, которой он сам себя и все окружающие считают? Предположим, мне должны ампутировать руку. Я говорю: я и моя рука. Если же должны отрезать обе руки, я говорю: я и две мои руки.
Если бы это были ноги, то было бы то же самое: я и мои ноги. Если бы им пришлось удалить у меня желудок, печень, почки - если бы такое оказалось возможным, - я бы говорил то же самое: я и мои органы. Но если бы они отрезали мне голову, что бы я сказал в таком случае? Я и мое тело, или я и моя голова? По какому же праву голова, которая даже не является членом организма, вроде руки или ноги, претендует на право говорить от моего имени, говорить "я"?
Только потому, что в ней находятся мозги? Но существуют такие создания, как личинки, черви и прочие подобные творения природы, у которых вообще нет мозга. Как быть в отношении их? Или у них тоже где-то есть мозг, который способен сказать: я и мое тело?"
Трелковский хотел уже было выбросить зуб, но в последнюю минуту переменил решение. Вместо этого он заменил ватный тампон на новый, более чистый, и положил зуб на место, в дыру.
Но теперь его стало по-настоящему разбирать любопытство. Он стал сантиметр за сантиметром обследовать комнату, и вскоре старания его были вознаграждены. Под маленьким комодом он нашел пачку писем и стопку книг, покрытых толстым слоем пыли. Он взял тряпку и тщательно вытер их.
Книжки оказались историческими романами, а письма не представляли собой никакого интереса, но Трелковский все же дал себе слово при случае прочитать их. После этого он завернул находку во вчерашнюю газету и залез на стул, чтобы положить их на шкаф. Именно тогда и произошла катастрофа. Сверток выскользнул у него из руки и с грохотом упал на пол.
Реакция соседей наступила почти мгновенно. Не успел он еще спуститься со стула, как со стороны потолка послышалась серия ожесточенных ударов. Неужели уже было больше десяти часов вечера? Он глянул на часы: десять минут одиннадцатого!
Он бросился на кровать, охваченный дикой яростью, но все же вознамерившись вплоть до самого утра не издавать ни шороха и тем самым лишить их малейшего предлога для очередного вторжения в его квартиру.
Но тут же кто-то постучал в дверь.
Соседи!
Трелковский проклинал панику, которая захлестнула его, словно всесокрушающая волна. Ему было слышно биение собственого сердца, которое, словно эхо, вторило стуку в дверь. Надо было что-то делать. Он попытался укротить поток ругательств и проклятий, которые вертелись у него на языке.
Получалось, он опять собирался оправдываться, объяснять, что и зачем он делал, просить прощение за сам факт того, что он был все еще жив! Значит, ему снова придется проявлять презренное слабоволие и безропотно реагировать на все, что ему будет сказано. Придется сказать что-то вроде: "Да вы только посмотрите на меня, разве я достоин вашего гнева. Ведь я всего лишь тупое животное, которое не в силах избавиться от шумных симптомов своего разложения. Так что не марайте о меня руки, а просто смиритесь с фактом моего существования. Я не стремлюсь вам понравиться, знаю, что это бесполезно, потому что такие, как я, понравиться не могут, но окажите мне любезность - презирайте меня так, чтобы не связываться со мной".
Кто бы ни стоял за дверью, стук повторился, и Трелковский пошел открывать.
Он сразу понял, что это не один из его соседей. Человек этот держался без обычной для них надменности, словно не был безоговорочно уверен в собственной правоте; более того, в глазах его можно было прочитать даже некоторую нерешительность. Появление Трелковского, казалось, несколько удивило его.
- Это квартира мадемуазель Шуле? - чуть заикаясь, спросил он.
Трелковский кивнул:
- Да... ее, была ее. Я новый жилец.
- А, так она съехала?
Трелковский не знал, что сказать. Было ясно, что незнакомцу ничего не было известно о ее смерти. Но что за дружба связывала его с этой девушкой? Просто дружба - или любовь? Может ли он прямо так взять и рассказать ему про ее самоубийство?
- Проходите, - сказал он наконец. - Что так стоять на лестнице?
Незнакомец пробормотал слова благодарности, которые прозвучали, как какой-то невнятный лепет. Вид у него был явно расстроенный.
Трелковский чувствовал себя не лучше. А вдруг этот человек поднимет крик или сделает еще что-нибудь подобное?
Такой возможности соседи ни за что не упустят. Он откашлялся, пытаясь прочистить горло.
- Пожалуйста, присядьте, месье...
- Бадар. Жорж Бадар.
- Рад с вами познакомиться, месье Бадар. Моя фамилия Трелковский. Боюсь, произошел несчастны...
- Бог мой, Симона! - почти прокричал он.
"Говорят, что великая скорбь всегда хранит молчание, - подумал Трелковский. - Как бы я хотел, чтобы это оказалось правдой!"
- Вы хорошо ее знали? - спросил он.
Мужчина вскочил на ноги.
- Вы сказали - знал ли я ее? Она что... значит, она умерла?
- Она покончила с собой, - пробормотал Трелковский. - Чуть более двух месяцев назад.
- Симона... Симона...
Теперь он говорил почти шепотом. Тоненькая полоска его усов чуть подрагивала, губы конвульсивно сжались, под накрахмаленным воротничком рубашки судорожно метался вверх-вниз острый кадык.
- Она выбросилась из окна, - пояснил Трелковский. - Если вы желаете взглянуть... - Почти неосознанно он повторял слова консьержки. - Она пробила своим телом стеклянный навес над внутренним двором. Умерла не сразу.
- Но почему? Почему она это сделала?
- Пожалуй, об этом никто толком не знает. Вы знакомы с ее подругой Стеллой?
Бадар покачал головой.
- Она тоже ничего не знает, а ведь была ее самой близкой подругой. Ужасное событие. Хотите чего-нибудь выпить?
Лишь сказав это, он вспомнил, что в доме совершенно нет спиртных напитков.
- Давайте спустимся в кафе, - предложил он, - и я вас чем-нибудь угощу. Вам это сейчас необходимо.
Несмотря на весьма жалкое материальное положение Трелковского, к этому шагу его подталкивали два обстоятельства. Первое заключалось в том тревожном душевном состоянии, в котором находился молодой человек, в его неестественной бледности. Второе же соображение сводилось просто к страху перед возможным, а скорее даже неизбежным взрывом негодования со стороны соседей.
В кафе он узнал, что Бадар с самого детства дружил с Симоной, всегда втайне любил ее, он только что демобилизовался из армии, намеревался признаться ей в любви и просить ее выйти за него замуж. Бадар оказался в общем-то незамысловатым молодым человеком и к тому же предельно банальным. В искренности его горя сомневаться не приходилось, однако фразы, в которых он пытался его выразить, были явно почерпнуты из дешевых романов. По его представлениям, используемые им готовые формулировки являлись гораздо более важным атрибутом выражения скорби по покойной, нежели все то, что он мог придумать сам. И все же он был забавно трогателен в своем невежестве. После второй рюмки коньяка Бадар вдруг заговорил о самоубийстве.