А после долгого ужина, уложив Поленьку спать, убегали с Лизой купаться по лунной дорожке, и прямо на знаменитой карадагской гальке, или даже в воде...
- Господин полковник!
Куракин осторожно тронул меня за лечо. Я вздрогнул; и тут-то голова моя наконец провалилась между разъехавшимися кулаками.
- А? Что?
- Господин полковник, проснитесь!
4
- Лизанька, доброе утро.
- Саша, милый! Здравствуй! Откуда ты?
От облегчения у меня даже колени размякли. Я присел на стол, чувствуя, что губы сами собой начинают улыбаться. Голосок родной, обрадованный, безмятежный. Все хорошо.
- Представь, я здесь. Но ненадолго.
- Что-нибудь случилось?
И встревожилась сразу по-родному. Не отчуждаясь, а приближаясь ближе.
- Да нет, пустяки. Я заскочу домой на часок. Может ты не пойдешь в Универ нынче... или хотя бы отложишь?
В летнее время Лиза давала консультации по европейским языкам для абитуриентов. Остальной год - там же преподавала, и занятие доброе, и все ж таки еще какие-то деньги. Лишних не бывает.
- Постараюсь. Сейчас позвоню на кафедру.
И ни одного лишнего вопроса, умница моя.
- Как Полушка?
- Все хорошо. Новую сказку пишет вовсю! На тех, кто умел думать только о еде, напал великан-обжора...
- Изящненько. Ох, ладно, что по телефону. Бегу!
- Ты голодный?
- Не знаю, Наверное, да.
- Сейчас распоряжусь. Жду!
Обычно я ходил домой пешком. Монументальные места, дышащие по северному сдержанным имперским достоинством; из всех городов, что я видел, такую ауру излучают лишь Петербург да Стокгольм. Через Дворцовую площадь, под окнами "чертогов русского царя", как писал Александр Сергеевич когда-то, и на выбор: либо через мост к Университету и Академии Художеств, мимо возлюбленных щербатых сфинксов, либо по набережной мимо львов к Синоду, либо через Адмиралтейский сквер и Сенатскую площадь, а дальше опять-таки через мост, Николаевский; Потом, похлопав по постаменту задумчивого Крузенштерна, еще чуток вдоль помпезной набережной и направо, к небольшому, ухоженному особняку в Шестнадцатой линии. Но теперь не было времени, и я вызвал авто.
Я как обнял ее, так и не смог оторваться. Светлая, свежая, нежная, и даже угловатый деревянный крестик из под ее халата вклинился мне в грудь по-родному. Она прятала лицо у меня на груди и стояла смирно; и думала, наверное, о бедных абитуриентах, которые придут к неурочному часу и с раздражением узнают, что занятия перенесены на полдень. Я слышал, как колотится ее сердце, и сам терял дыхание. Скользнул ладонью по ее гибкой спине, потом еще ниже, плотнее прижимая ее тело к своему. Возбуждение этих диких суток сказывалось во всем; Лиза, послушно прильнув бедрами, чуть запрокинулась, подняла порозовевшее лицо, заглядывая мне в глаза, и с задорно утрированным изумлением спросила:
- Ой, что это там такое острое?
На ранний шум из двери ведущего в детскую коридорчика высунулась Поля и, мгновенно срисовав обстановку, с визгом скатилась по лестнице к нам. Скоро маму догонит ростом. Широко распахнула тоненькие руки и загребла в объятия нас обоих. Она с ранних лет очень любила, когда мы обнимаемся, и всегда норовила присоединиться. Иногда даже сама начинала возглавлять: "Что вы ровно брат с сестрой сидите? А ну обнимитесь! Поцелуйтесь!" И когда мы, посмеиваясь, соприкасались губами, восторженно и хищно взвизгивала, с размаху прыгала к нам на колени, одной рукой обнимала за шею меня, другой - маму, и совалась мордашкой к нам, чтобы целоваться а-труа.
Папенька приехал! Папчик! Наш любименький! А я не успела описать сказку! А ты уже отдохнул?
- Да, Полька, - ответил я. - Я уже отдохнул.
- Здорово, мам, правда? Как быстро.
- Долго ли умеючи, - сказала Лиза. У нее было счастливое лиц. Она приподнялась на цыпочки и поцеловала меня в небритый подбородок.
5
Гудок. Гудок. Гудок. Еще гудок. Неужели успела куда-то уйти? Мутное марево сотен приглушенных разговоров и сотен шаркающих шагов висел в громадном зале, время от времени его продавливал шкворчащий голос громкоговорителей, объявляющих рейсы. Невозмутимый доктор Круус, свесив в длинной руке строгий чемоданчик, стоял поодаль и все посматривал на часы. Шалишь, до посадки еще восемь минут. Климов и Григорович из группы "Веди", азартно жестикулируя, что-то доказывали друг другу, присев прямо на ступеньку лестницы, ведущей на второй этаж.
Щелчок.
- Стасенька, алло! Доброе утро!
- Саша! - голос измученный, больной. - Господи, ну нельзя же так! Я всю ночь не спала, ждала, когда ты позвонишь...
Вот тебе.
- А я, наоборот, боялся разбудить, думал - отдыхаешь.
- Да уж, отдохнула, поверь. Врагу не пожелаешь. Ты где?
- В аэропорту. Улетаем сейчас по делам.
- Надолго?
- Точно не знаю, На несколько дней, не больше.
- Ты успел поспать?
- Да, конечно.
- Домой забежал? - вопросы заботливые, а тон чужой. "Повинность исполняю... от сердца улетаю..." Может, это она уже исполняет повинность? При таком тоне можно отвечать лишь, что все в порядке.
- Все в прядке. Забежал, конечно.
- Тебя покормили? В сухое переоделся?
- Все-все в порядке. Ты-то как?
- Да пустяки.
Это могло значить и что сырость опять ударила по бронхам. И что какой нибудь журнал опять задерживает с выплатой, и в доме нет денег. И что угодно. Очень значимое слово "пустяки", когда его произносят так. Но пытать о подробностях бесполезно - не скажет нипочем. Остается либо бессильно гадать до зуда под черепом, либо махнуть рукой, дескать все равно сейчас ничем помочь не могу. Но так вот раз махнешь, два махнешь, три махнешь - и близкий человек становится чужим. А раз погадаешь, два погадаешь, три погадаешь - и сбрендишь. Широкий выбор.
- Стасик, я как только вернусь - сразу позвоню.
- Звони.
- Знаешь, ужасно хотелось забежать прямо посреди ночи...
- Ну и забежал бы.
- Я глотнул воздуха.
- Стасик, но ты так ушла в порту...
- Обычно ушла, ногами. Саша, тебе, наверное, уже пора, - она словно разглядела со своего Каменноостровского, что Круус опять отследил время и, тактично не глядя в мою сторону, сделал знак сыскарям; те поднялись, Климов набросил на плечо ремень яркой молодежной сумки с нарисованными на раздутом боку пальмами и девицами в купальниках, Григорович, прядая плечами, поудобнее упокоил на спине старомодный рюкзак. Конспираторы.
Я и не знал, что сказать. От беспомощности слезы наворачивались.
- Береги себя, Сашенька, умоляю, - глухо сказала Стася и повесила трубку.
ТЮРАТАМ
1
Жара.
Зыбко трепещет горизонт. Степь еще не сожжена, еще не стала мертвенно-коричневой и пыльной, но уже тронута жесткой желтизной. Раскалено бледно-голубое предвечернее небо; ни облачка на нем, лишь темная крапинка ястреба перетекает через зенит.

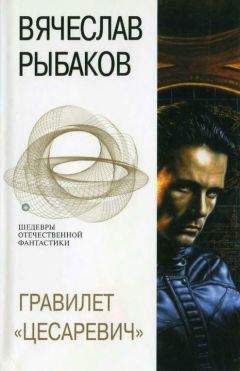
![Ричард Адамс - Обитатели холмов [издание 2011 г.]](https://cdn.my-library.info/books/49785/49785.jpg)

