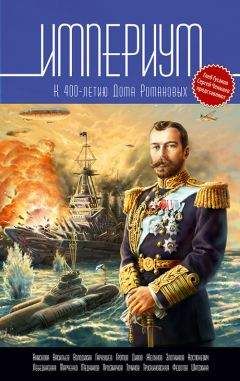Прошлой зимой в Стокгольме, после приема у американского посла они садились в авто – и внезапно человек в сутане католического священника трижды выстрелил в Полину через лобовое стекло, прежде чем Оливер успел скрутить его. К счастью, девушка отделалась легким ранением в плечо. В нападавшем позже опознали Раймона Дрейно, резидента спецслужб троцкистской Франции.
Два месяца спустя в Москве Полина почувствовала себя неважно после завтрака и отказалась от поездки в загородное имение князя Вяземского… швейцар гостиницы, севший за руль ее «форда», чтобы отогнать его в гараж, взлетел на воздух вместе с машиной.
Кому-то там – за ощетинившейся стволами пулеметов и увитой колючей проволокой западной границей – очень не нравилась тихая работа Полины по сбору информации.
Фогт сделал глоток из бутылки, сел за стол и взял перо.
Ночь на пятое июня 1937, Константинополь, отель «Амбассадор».
Вчера внезапно, как солнечное сияние, в меня вошло ощущение: я благодарен России. Эта страна дала мне дом, богатство, любовь. Родина пыталась убить меня, насадив на французские штыки в семнадцатом году, Родина топтала меня коваными сапогами спартакистов в Тюрингии и едва не расстреляла во время коммунистического террора в девятнадцатом и двадцатом. Я же теперь говорю по-русски, думаю по-русски, я ем блины с икрой и пью ледяную водку после бани. Но русским я не стал. Я всё еще немец, das Deutsche Volk, и этого не отменят никакие революции и классовые теории.
Ему нравилось писать впотьмах, с трудом различая буквы на сером листе. В этом было что-то от далекого детства.
Русский царевич будет завтра коронован в Константинополе. Веками славяне грезили о белых дворцах Византии, матери православного мира, и вот, после гибели Тройственного союза этот древний, как само время, город – Второй Рим, Царьград, богато украшается куполами русских церквей; и османы, разбитые и униженные, где-то далеко за горами. В этом огромном муравейнике трудно найти турка, зато без счета армян, болгар, сербов и македонцев. Все в радостном напряжении. Всё живое ждет, жаждет царя. Трогательно для европейца видеть, как русские сохранили преданность монархии – ведь до Гражданской войны царь был ненавидим столь многими. Нужно было отдать власть парламенту и диктатору Врангелю, а монарха сделать фигурой скорее церемониальной, символической, как в Англии, – чтобы вернуть расположение людей к императорскому дому.
Что до меня – я только зритель в этом театре теней далекого прошлого… Той Византии, что погибла в пятнадцатом веке, – не вернуть, и даже русская монархия уже не более чем исторический символ, обет верности могилам предков.
Полина неслышно скользнула в комнату, положила руки ему на плечи.
– Его попытаются убить, – тихо сказала она.
– М-м?
– Цесаревича. Завтра, во время церемонии.
Где-то далеко внизу по площади перед гостиницей медленно двигалась повозка, цокали по камням копыта. На стене среди дешевых литографий сонно шевелилась тень занавески.
– Поэтому мы и здесь? – нахмурился Фогт.
Полина молча провела рукой по его щеке.
– Разве мы телохранители? – спросил он. – У него есть свои филеры, гвардия, жандармерия.
– Всё это неважно, – Полина смотрела куда-то в угол комнаты, в сумрак, где еще дремала душная июньская ночь.
– Я не хочу, чтобы ты рисковала жизнью. Одно дело подкупать чиновников и перевозить через границу чертежи в зонтике – и совсем другое лезть под пули.
– Нет никакой разницы, дорогой мой. Разве ты еще не понял?
Женщина всё так же смотрела мимо, и Фогт почувствовал нарастающую волну раздражения. Что за темные демоны занимают ее внимание, вместо него – живого и любящего человека?
– Я не хочу потерять тебя, Полли. С запада идет… надвигается что-то страшное, темное и жестокое – буря, равной по силе которой мы еще не видели. Не хочу встретить ее в одиночку. Счастье начинается тобой и тобой же кончится.
Она внезапно обняла его, прижалась всем телом – и теплый запах из его сна вернулся. Оливер ощутил укол стыда. Возможно, там, во тьме, она всё еще слышит голоса погибающих родителей и братьев, виновных только в принадлежности к «вредному классовому элементу»?
Вдалеке ударил колокол на звоннице храма Святого Фомы.
– Ты умеешь быть убедительной, – Фогт покачал головой. – Придется вспомнить войну. Да и мог ли я забыть ее когда-нибудь?
Товарищ Миллер сохранял внешнее спокойствие, но редкие седые волосы его под плюшевым кепи намокли, а рука, сжимавшая трость, едва заметно дрожала. Он боялся, что не сможет владеть собой и дальше. Либкнехт, который всегда был против любых контактов с реакционными русскими властями, сперва язвительно высмеял поступившее приглашение на коронацию… но спустя несколько дней «передумал». Он вызвал Миллера к себе и лично дал указание ехать в Константинополь; он же сам и назвал двух других членов делегации – и приказал держать всё в тайне до последнего.
Чертова коронация. Чертовы русские. Чертов старик Либкнехт с его интригами.
В гостинице немцы переоделись с дороги и сразу вышли в город. Миллер предпочел бы просидеть в четырех стенах всю неделю, но под нажимом товарищей сдался – впрочем, его любопытство к жизни за «железным занавесом» перевешивало страх перед неизбежным. Миллер боялся, что кто-то из его товарищей воспользуется возможностью и сбежит. Нойер казался слабым звеном. Нойер из молодых, он не сражался на баррикадах в восемнадцатом году, не проливал кровь. Его может привлечь вся эта дребедень вроде джаза и красивой жизни. Впрочем, его выбирал в делегацию сам старик, ему и отвечать – вытирая пот, думал товарищ Миллер. Куда больше пугал черноволосый, черноплащный Хесслер с глазами фанатика. Нет, этот вряд ли сбежит. Зачем его-то Либкнехт прислал сюда?
Эти мысли, тяжелые и липкие, как пальцы мясника, преследовали дипломата, не давали сосредоточить внимание – а ведь вокруг было на что посмотреть. Чуть в стороне от набережной кипел настоящий восточный базар (в ССДРЕ, где частная торговля была под запретом, рынков не существовало). На углу улицы возвышался над толпою усатый городовой с позолоченной бляхой на белой парадной гимнастерке. Он с хитрой улыбкой проводил взглядом троих гостей, рука его при том покоилась на рукояти шашки. Вдоль набережной, громко цокая, проехал казачий патруль на гнедых донских скакунах – и немцы невольно прижались к гранитному парапету. Огромный скакун выкатил на товарища Миллера яростный, размером с кулак, влажный глаз: ты что еще за тип?
Здесь было опасно, дико.
На площади у дворца Топкапы, превращенного в городскую управу, проносились сверкающие автомобили, развевались трехцветные флаги. В парке оркестр играл вальс. Специально устроенные к церемонии фонтаны искрились серебром, словно на сказочной картинке. А над площадью величественно парила в золотистой дымке фантастическая громада древнего Софийского собора.