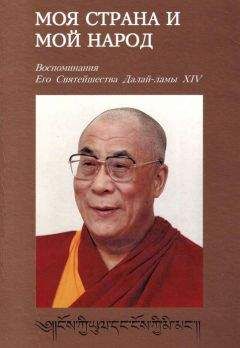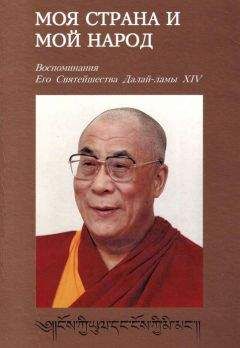- Задание! - не оборачиваясь, бросил Басманов. - Диктуйте задание!
Теперь в явном замешательстве пребывала филологическая половина. Разумеется, у каждого из них была припасена своя заветная и заведомо несбыточная мечта - вроде того, чтобы воссоздать текст первоначального варианта "Сцены у фонтана", не записанный Александром Сергеевичем за неимением бумаги и карандаша. Послышалось сперва сдержанное шушуканье, затем мгновенно возник спор, ведомый на уровне яростного шепота; затем скрипнул отодвигаемый стул - поднялся директор.
- Друзья мои, момент действительно очень ответственный, - заговорил он, окончательно переставая казаться романтическим юношей. - Начнем с нетривиального, но несложного задания. Беру на себя смелость предложить первый вопрос: в сохранившихся отрывках десятой главы "Онегина" имеется общеизвестная четырнадцатая строфа:
Витийством резким знамениты,
Сбирались члены сей семьи
У беспокойного Никиты,
У осторожного Ильи...
Поскольку только сам поэт мог знать, о ком должна была идти речь в дальнейших строчках, предлагаю дать задание продолжить строфу.
Еще одна лампочка, просвечивая сквозь шафрановую шаль, вспыхнула у меня перед глазами, и я понял, что проклятущая мудрейшая БЭСС сейчас выдаст свой коронный номер-изображение на коллодиевой взвеси. И уж попробуй возрази, если перед тобой - сам Александр Сергеевич, выполненный в масштабе один к одному! Давай, БЭСС, давай, Рыжая, покажи, на что ты способна - на какую безупречную, филигранную подделку!
Глаза Адели. Огромные, зеленые, неистовые - так когда-то, наверное, глядели зачарованные тунгусы на полет огненного бога... Но никаких призрачных фигур в лаборатории не возникало - глаза Адели неотрывно следили за цепким манипулятором, в клешне которого был зажат огрызок пера; и вот уже, попискивая и брызгая чернильной жижей на колпачки сигнальных ламп, это перо заскользило по шершавой бумаге, оставляя за собой стремительные штрихи строк; и я, холодея, почувствовал, что меня неудержимо тянет узнать в этих строках такой характерный, раз и навсегда запоминающийся почерк...
Вороненая клешня манипулятора отшвырнула перо, и пять рук непроизвольно потянулись к пульту, но манипулятор успел раньше - он поднял исписанную бумагу высоко над нашими головами, на какую-то долю секунды замер, словно выбирая из нас кого-то одного, а потом вдруг швырнул листок прямо в лицо Басманову.
Никто не двинулся на этот раз.
Листок, шурша, скользнул по лацкану басмановской куртки, раза два перевернулся в воздухе и тихо лег на пол возле ног Ильи - текстом вверх.
Вероятно, это разобрали все - крупные четкие буквы отнюдь не поэтического обращения: "Его превосходительству начальнику резервной группы лаборатории программирования господину Басманову. Милостивый государь!.."
Не знаю, может быть кто-нибудь прошептал эти строчки вслух, а может, и нет, но я уверен, что в памяти каждого всплыло:
То был приятный, благородный,
Короткий вызов, иль КАРТЕЛЬ...
Но в строчках, лежащих перед нами, ни краткости, ни приятности, ни даже ясности холодной и в помине не было. Я не запомнил письма дословно - да и никто из присутствующих, как выяснилось потом, не смог точно его припомнить, - но одно я знаю твердо: продиктовано оно было не машиной. Столько гордости, бешенства и отчаяния уже один раз пережитой смерти - и все же ни малейшего колебания перед новой смертной мукой - было в этих строках, что так писать мог только человек и поэт.
Только человек и поэт, который ни царю, ни самому богу рабом никогда не был.
Только человек и поэт, который помыкать собою, как холопом, и указывать, что и когда ему сочинять должно, никому не позволял.
Только человек и поэт, духом и телом свободный от рождения и до предназначенного судьбою часа, готовый уже не с пером, а с пистолетом в руке защищать свое право не подчиняться воле и прихоти равного себе...
Странный сухой щелчок нарушил тишину, я поднял голову и в черной клешне манипулятора увидел медленно подымавшийся пистолет. Другой - рукояткой к Илье - лежал на пульте.
Басманов не шевельнулся. Не двигался и никто из нас, хотя по старым классическим правилам надо было хотя бы крикнуть Басманову: "Закройся!". Мы не могли и пальцем пошевельнуть, хотя черное дуло поднялось уже до уровня синего ромбика университетского значка, потому что все мы - и я тоже - были на ЭТОЙ стороне, а на ТОЙ - был один.
Но в этот миг жесткий толчок сбил меня с ног, и я увидел над своим лицом устойчиво расставленные опоры "домового", а из черной коробки на его поясе, принятой мной за портативный магнитофон, высовывалось тупое рыло десинтора ближнего боя.
Синяя струя пламени полоснула по пульту, перерезав манипулятор, и желтоватый листок с летучими строками вспыхнул у меня перед самыми глазами. Я отдернул голову и невольно зажмурился.
Когда я приоткрыл глаза, все было уже кончено. Исполосованный огненными, стремительно остывающими бороздами, пульт уже не был пультом - это была оплавленная развалина. Вонючие тошнотворные дымки выползали из кассет с контрольными лентами, и среди всего этого хаоса, обуглившегося и оплавленного, уцелела почему-то одна-единственная баночка из-под помады, возведенная в высший ранг чернильницы поэта.
Десинтор ближнего боя, луч которого проникал всего на шестьдесят-семьдесят миллиметров в глубь поверхности, конечно, не мог причинить вреда самой БЭСС, чей мозг покоился в десятиэтажных подвалах информатория.
Но лаборатории Басманова больше не существовало.
"Домовой", сделавший свое дело, защелкнул кожух десинтора и замер в своем углу. Он не мог поступить иначе - пистолет, направленный на Илью Басманова, промаха не давал. Вот только кто вызвал "домового" в лабораторию, кто разрешил ему нарушить мой приказ, кто надоумил его захватить с собой десинтор?
Да кто же еще, как не сама БЭСС, еще ночью после доклада о полной готовности до мельчайшей подробности рассчитавшая все, что неминуемо произойдет...
Я не помню, кто за кем покидал разгромленную лабораторию. Кажется, первой убежала Аделя - так же, как во время нашего утреннего разговора, она осторожно, чтобы не задеть, обошла меня сторонкой и исчезла в преддождевых сумерках, пахнущих арбузной коркой. Когда уходил я, в помещении оставался один Басманов.
Я спустился вниз и стал ждать его, потому что завтра предстояло писать докладную по поводу аварии и надо это дело обговорить. Неподалеку от информатория дюжина "домовых", подсвечивая себе небольшими прожекторами, принимала из вертолета огромный камень, обвязанный цепями. Было ли на нем уже что-нибудь высечено, я разобрать не смог.