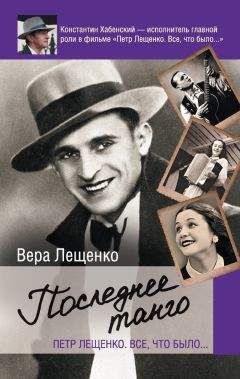— Знаешь, — продолжила она с видимым внутренним усилием, — иногда ты кажешься мне… я не знаю, как сказать… словно бы ты пришел издалека. Ты не такой, как все. Даже, не обижайся, иногда ты меня пугаешь. Ах, черт, не могу толком объяснить тебе, что чувствую. Я простая баба, без образования, даже школу толком не закончила… Может, конечно, я говорю глупости… Но вот ты не из Литвы, а говоришь со мной по-литовски лучше, чем я.
(Хотя Марите и была чистокровной литовкой, или, как тут говорили, литвинкой, но родилась и первые семнадцать лет жизни прожила на Амуре, где ее отец служил в пограничной страже.)
— Ты пишешь стихи и сочиняешь музыку, и я заметила, что тебе это дается легко, без труда… ну, словно само собой, — продолжила она. — Даже проще, чем книги и сценарии. Разве может быть, чтобы у человека все получалось одинаково хорошо?
Вот и здесь во мне почуяли странного чужака. Я не испугался и даже не удивился. Просто принял к сведению. А чего я ждал: чтобы любящая меня женщина, с которой я уже больше года живу под одной крышей, не заметила ничего?
— А что тебя удивляет? — бросил я как можно небрежнее. — Разве я один такой?
— Ну, не знаю. — Жена пожала плечами. — А вот еще: ты столько знаешь… А пишешь иногда с такими ошибками, как будто в школе не учился. Как такое может быть?
— Ну, это-то как раз дело обычное, — обрадовался я возможности свести дело к шутке. — Вон, министр кинематографии так вообще не все слова правильно выговаривает.
Жена вздохнула, покачав головой, и укоризненно посмотрела на меня.
— Ладно, открою тебе страшную тайну — я марсианский шпион, — бросил я, растягивая губы в нарочитой улыбке.
И тут же пожалел — на ее лице отразилась явная обида.
— Ну, не хочешь говорить — не надо. — Она поднялась, высвобождаясь из моих объятий. — Только я думала… думала, что между теми, кто любит, тайн быть не должно… Ладно, не засиживайся тут, — вздохнула она, — я жду тебя в спальне.
Я вновь остался один. Посидел, глядя в ночной мрак за окном.
Вот так. Ты думал, что избежишь этого. Думал, что это простое и непосредственное создание не разберется, что к чему и с кем рядом она живет.
Ты плохой актер. А был бы даже и хороший — неужели ты полагаешь, что твоей игры не заметили бы? Тебе ли не знать, что кто, как не актер, прежде других заметит чужую игру?
Тень недоверия и непонимания уже появилась между нами. И со временем она будет только гуще и больше.
Но могу ли я приоткрыть ей — даже ей, той, которую люблю, наверное, сильнее, чем любил кого-нибудь за свою не такую уж бедную чувствами жизнь, — хотя бы краешек правды? Хотя бы из опасения, что меня сочтут обычным сумасшедшим?
Найдется ли в этом мире кто-нибудь, кроме разве что десятка совсем уж свихнувшихся на своей профессии физиков и математиков, кто вообще поймет, о чем я хочу сказать?
И вдруг неожиданная мысль, нелепая и странная на первый взгляд, буквально пронзила меня. Мысль о том, как можно рассказать… или лучше — как высказать этому миру свою тайну.
И на бумагу, словно сами собой, легли первые строки на русском — на моем родном русском.
— Капитан, вот они!
Я отвел глаза от экрана радара и посмотрел туда, куда указывал криво сросшийся палец Мустафы.