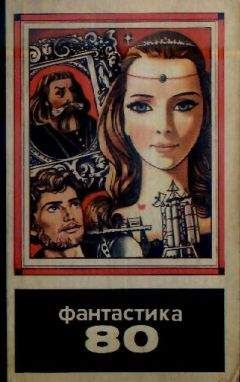С помощью моей методики люди смогут только собрать, записать матрицы-млонзограммы рассеянного по неоглядному миру интеллекта давно умершего человека. А потом, через многие годы, настанет Великое Интегрирование. Во времена Интегрирования человечество научится возобновлять, воскрешать этот интеллект в живом, искусственно созданном человеческом мозгу.
От млонзограммы - к мозгу, от мозга - к полному воскрешению! Люди бессмертны. Люди - Гомо диспёргенс - жили и будут жить вечно!
Но… не все люди - люди. Испокон века были, да и сейчас еще существуют мыслящие двуногие существа, которых никак не назовешь настоящими людьми. Сами они не создают никаких ценностей, не рассеивают, а, наоборот, вбирают, всасывают живые искры других интеллектов.
Всасывают и используют для своего животного, личного употребления. Homo utens следует называть такие существа. Гомо утенс - человек-потребитель. Утенс и диспёргенс - вечные антиподы, извечные непримиримые враги.
Каждый нарождается, чтобы стать диспёргенсом, но- не каждый становится им. В странах, где у власти золото и кривда, чем больше собственности у человека, тем меньше он является диспёргенсом.
Диспёргенс - строитель, борец за освобождение угнетаемых и гонимых. Он намного больше отдает, чем берет.
Утенс - хапуга, потребитель. Его мечта, цель - только брать, ничего не давая взамен.
Диспёргенсов - миллиарды, утенсов - тысячи.
Диспёргенс - неумирающий.
Утенс - смертнейший из смертных. С самого рождения он не живет, а медленно, постепенно умирает.
Утенс - исчезнет, забудется навсегда. Будущую Землю заселит Гомо диспёргенс.
Поколение за поколением станут воскресать, возвращаться к жизни. И в сознании воскресших оживут еще более давние, предыдущие поколения сеятелей. Да еще как оживут - человек и не подозревает, не знает и малейшей частицы того, что бережет его безмерно богатая подсознательная память.
Настанет время великого синтеза, всемирного воскрешения из мертвых! Грядет светлый, истинно праведный суд над всем минувшим - светлый для сеятелей, грозный, беспощадный для стяжателей…”
– Хватит. Дальше сугубо научное. - Подопригора взял у меня красную папку и, завязывая шнурки, произнес тихо, взволнованно: - Благодарствую! Душевно читали… Мне помнится, я тоже очень волновался. “Великое Интегрирование”… “Люди бессмертны”… И верилось, и не верилось. Вот бы мне хотя бы один диск из этой моей млонзограммы…- Профессор словно прочитал мои мысли.
– Я вас жду через неделю. Будут готовы для вас копии всех дисков. До свидания.
Весь день Маринка ходила под впечатлением расскааа Михаила: а ну как и правда? А ну как не выдумал?!
“Я выживу, выживу…” - звенели в памяти Надийкины строчки. И тут же так ярко представилось: распахнулись двери, и на пороге она - живая, радостная, порывистая… А за столом - папа…
“Я выживу, выживу в желуде, в зреющем колосе!”
8. Буря
Прошло два дня.
Пока они были впереди, только приближались, - где-то там еще, завтра-послезавтра, - то казалось, будут они такими долгими, такими нескончаемо-прекрасными: все успеет - и наговорится, и насмеется, надышится на всю жизнь. Два дня двумя годами казались…
Так все и звенело в ней тогда, так и пело - простенький солнечный напев: И се-год-ня мы вдвоем!
И се-год-ня мы вдвоем!
Как-то само собой сложилось. Что ни делает, куда ни пойдет, а в ней так и звенит, так и звенит: Еще завтра мы вдвоем!
Еще завтра мы вдвоем!
Сегодня, завтра… Сегодня, завтра… Про послезавтра - ни слова! Таким неимоверным казалось это послезавтра, таким далеким… А оно - вот уже! Уже и надвигается…
Прошло два дня. Настал третий.
С утра пасмурно. На старые сугробы, на трухлявый, источенный струйками лед тихо падали крупные хлопья густого снега. После обеда прояснилось, поднялся ветер. И опять зашумело, загудело в соснах, засвистело за хатой в дубняке.
Маринке и хотелось побыть с Михайликом, и тяжко: взглянет на паренька, а услужливая мысль подсказывает, подсчитывает, сколько еще часов - часов, а не дней! - остается до разлуки. И так горько, так гнетет этот подсчет - еще одиннадцать, еще десять, девять, восемь… Восемь - и ты одна! Не вытерпела, оделась:
– Я сейчас. Хворосту наберу.
Вышла, захлебнулась сырым ветром - и вновь мысли: скоро, скоро вечер… Говорил, что уйдет ночью, после двенадцати…
Нет, и во дворе нет спасения от мыслей.
А ветер теплый, совсем не мартовский. Землей пахнет и даже вроде первыми листочками. И откуда только эти запахи, когда вон еще снегу сколько…
Постояла, послушала - лютует весенняя буря. А там, за лесом, грохочут, приближаются стальные громы.
Вернупась в хату.
Михайло чистил пистолет. Рядом на столе лежал диск.
– Что это? - спросила Маринка, указывая на диск. - Не это ли твоя млонзограмма?
–Нет, вздохнул Михайло. - Это… На дороге нашел. Нет у меня млонзограммы. Не смог я тогда ее взять…
– А почему не смог?
– Так получилось. Профессор-то велел прийти через неделю. С утра я был в клубе, там меня и застала война. Наш город бомбили в тот же день в одиннадцать. Особенно старались попасть в железнодорожный мост - это как раз возле нас. Сразу после отбоя я, понятное дело, побежал домой. Наш домик, повалило взрывом, а там, где стоял особняк профессора Подопригоры, дымилась большущая воронка…
– Ну и выдумщик… - грустно улыбнулась Марина. - Нет твоего Подопригоры. И вообще нет никакого бессмертия… Все это ты просто выдумал.
– Нет, говоришь? - Михаил старательно протер пистолет белой тряпочкой. Взвешивая на ладони, задумчиво рассматривал своего стального, вороненого побратима. - Бессмертие, Хмариночка, как и смерть, в наших руках.л Спрятал пистолет, диск. Долго и молча занавешивал окна, зажигал каганец. И уже при его неуверенном, колеблющемся свете подсел к Маринке, положил руку на плечо: - Запомни: для таких, как мы, смерти нет. Мы - Гомо диспергенс! Мы больше отдаем, чем забираем…
– Милый! - Маринка прижалась, уткнулась лицом в грудь Михаилу. Притихла, только плечи вздрагивают…
И снова тихо в хате. Тихо и тоскливо. А разве не так же было и тогда, в ту недавнюю и одновременно такую далекую, разбушевавшуюся вьюжную ночь? Нет, не так, Одна-одинешенька была Маринка, а теперь с нею - у нее - Михайло. Пока с нею… И наши наступают - вон как грохочет!
Все ближе и ближе. И не вьюга:- теплая, мартовская буря за окнами.
И все-таки в комнате тяжкая тишина..
Почему?
Сегодня ночью прощание.
– Послушай, Хмариночка, - заговорил наконец Михайло. - Будет тебе хмуриться. Хочешь, я тебе что-то интересное расскажу?
– Что ты там еще можешь рассказать… Ничего больше не придумаешь. Все уже рассказал…