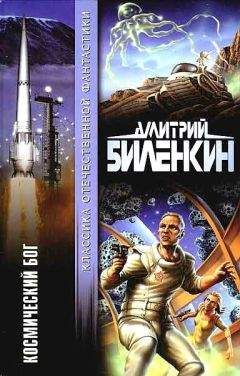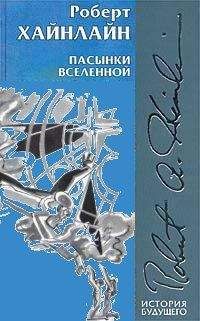— А ты невоспитанный мальчик, — Ила только чуть-чуть, самую малость, повысила голос, — и я скажу учительнице, чтобы она пересадила меня.
На следующем уроке Эниа Андреевна сделала Гри первое замечание. Она так и сказала:
— Гри, я делаю тебе первое замечание.
— Да, — подтвердил Гри, — первое, — и еще сообщил при этом, что он умеет считать до миллиона.
Энна Андреевна очень внимательно и долго смотрела на него, а потом вдруг улыбнулась и сказала:
— Это очень хорошо, что ты умеешь считать до миллиона. Дети, кто-нибудь еще умеет считать до миллиона?
Над партами поднялись тринадцать рук. И тогда Энна Андреевна велела всем опустить руки, а Гри разрешила сесть на место.
Дома Гри нарисовал в альбоме тринадцать рук с глазами на ладонях и сверху написал: “Они умеет считать до миллиона”.
А потом он нарисовал бегемота, носорога и слона в террариуме, отгороженном рвом, и подписал снизу: “А вы умеете считать до миллиона?” И, подумав немного, добавил: “А на вас смотреть прилично?” Вопрос был нелепый, и Гри знал, что вопрос этот нелепый, ведь для того и существовали зоопарки, чтобы люди могли рассматривать зверей. Но почему, думал Гри, рассматривать зверей можно, а людей нет? Люди рассматривают зверей, чтобы побольше о них узнать. А разве Илу он рассматривал не для того же? И наконец, разве не для того человеку глаза, чтобы смотреть и видеть? И все-таки учительница встала на сторону Илы, и мама, если бы она была при этом, тоже поддержала бы Илу. А папа?
— Папа, скажи, почему неприлично разглядывать человека?
— Условность, Гри, люди так договорились между собой. Но нужно ли это? — Папа пожал плечами. — Я думаю, это прошлое, которое люди просто не успели еще пересмотреть.
Полгода, от сентября до марта, тянулись бесконечно долго.
У Гри было странное ощущение, будто эти полгода впятеро больше всей его прежней жизни. Каждый день на каждом уроке Энна Андреевна говорила: “А теперь, дети, пойдем дальше”, но Гри почему-то не чувствовал этого движения вперед. Наоборот, очень часто у него возникала твердая уверенность, что они движутся вспять, что они возвращаются на исхоженные дороги и непонятно, зачем петляют на этих дорогах. Это было вроде того, как если бы они сейчас, на уроках алгебры, вдруг затеяли палочки писать.
А Ила чуть не после каждого урока говорила своей подруге Лане:
— На этом уроке было очень интересно.
И Лана отвечала ей важно:
— Да, было оченъ интересно. Энна Андреевна знает все на свете.
А потом они говорили о глупых детях из прошлого, которые даже в пятом классе изучали еще арифметику, хотя арифметика — всего лишь частный случай алгебры.
Гри однажды же выдержал и сказал этим девчонкам, что еще ни одному человеку не удалось установить разницу между хвастовством и глупостью.
— А когда слушаешь вас, так и вовсе понимаешь, что этой разницы нет.
Девочки пожаловались учительнице. Энна Андреевна велела Гри извиниться. Встав у кафедры, Гри извинился, а вернувшись на место, вдруг сказал:
— Но ведь это им все равно не поможет.
Вечером у Гри был разговор с отцом, потому что накануне Энна Андреевна звонила отцу в институт. Папа сказал, что Гри огорчает его. Гри сидел в кресле напротив и, глядя отцу прямо в глаза, вежливо ждал, когда же он перейдет к делу по существу. Наконец отец вздохнул и сказал, что он, Гри, и все живут в обществе, а коль скоро это так, все должны подчиняться условностям, потому что без условностей нет общества.
— Значит, — спросил Гри, — я не имел права говорить девчонкам правду?
— Нет, — папа отвечал неторопливо, спокойно, — ты не можешь, ты должен говорить правду. Но при этом ты уважать мнение другого человека, каким бы оно тебе не казалось.
— А они, — Гри все так же смотрел отцу в глаза, — могут говорить, что им вздумается, потому что люди, о которых они говорят плохо, уже мертвы и не могут ответить им?
— Нет, — улыбнулся отец, — они тоже не должны так говорить, но перед мертвыми не извиняются. А если извиняются, то просто потому, что находятся живые, которые присваивают себе право говорить от имени мертвых и представлять их волю.
— Хорошо, — сказал Три, — я понял, папа.
— Да, — кивнул отец, — я вижу.
Ночью была гроза. Это была первая весенняя гроза в нынешнем марте. Сначала по крышам и стеклам лупил град, как будто тысячи чудовищ одновременно выплевывали миллионы своих зубов. Потом хлынул дождь, который был даже не дождь, а сплошной, как из необъятной, величиной с небо, трубы поток воды. Потом грохнул гром, сверкнула молния — и небо стало зеленым, того электрического зеленого цвета, какой бывает у искровых разрядов.
Наутро после грозы взошло солнце, какого уже давно не было. Гри отлично звал, что земная жизнь никак не влияет на солнце, что солнце за ночь не могло измениться и во всяком случае никак не могло стать моложе. И все-таки он видел юное солнце, которое ничего общего не имело со вчерашним — вялым солнцем февраля.
Гри вышел из дому в восемь пятнадцать — за четверть часа до уроков. Школа была в пяти минутах ходьбы, и Гри всегда отворял школьную дверь в одно и то же время — восемь двадцать. Но сегодня Гри едва передвигал ноги. Если так ходить, думал про себя Гри, заявишься в школу после звонка или, в лучшем случае, со звонком. Такого у них в классе еще не случалось, и Энна Андреевна скажет, что это необычайное происшествие и о нем непременно надо поговорить. Ила выступит первой и наверняка начнет так:
— Меня лично поведение Гри удивляет с первого дня.
Потом выступит Лана и скажет, что она лично в первые дни ничего такого не замечала в поведении Гри, но вскоре она увидела те же, что видит ее подруга Ила.
Прямо перед школой стоял дом Института морского животноводства, а рядом, напротив главного его входа, была остановка монорельсового трамвая, соединявшего институт с берегом моря. До берега было всего сорок километров — десять минут с двумя остановками. Но это были первые в жизни сорок километров и десять минут, проведенные самостоятельно, и они нисколько не были похожи на те, что бывали прежде, и так же мало они будут походить на те, что придут впоследствии. Строго говоря, это были даже не просто первые сорок километров и десять минут, — это были единственные и неповторимые километры — минуты, на которые Гри предстояло оглядываться всю жизнь, до последнего ее дня.
Гри сидел в кресле у иллюминатора. Кроме Гри, в отсеке не было никого, и он чувствовал себя первым человеком на Земле. Первым и самым могущественным, желания которого реализуются так же быстро, как возникают. Дважды по воле Гри трамвай останавливался, дважды платформы подкатывали эскалаторы, хотя внизу, на Земле, не было никого, кто нуждался бы в них. Только одного Гри не мог сделать — продлить или сократить стоянку, потому что тридцатисекундная стоянка в интервале от восьми до десяти утра и от семнадцати до девятнадцати была неизменной. Но Гри нисколько не чувствовал себя из-за этого слабее, как не чувствовал себя слабее оттого, что невозможно остановить солнце или устроить лунное затмение.