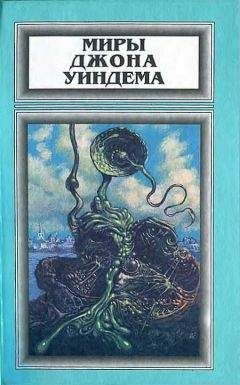Но убедить себя пойти на это было трудно. Прожив тридцать лет в уважении в праву и в повиновении закону, я еще не был готов признать, что условия изменились совершенно. Кроме того, у меня было такое ощущение, будто, пока я веду себя нормально, мир еще может каким-то непостижимым образом вернуться к нормальному состоянию. Абсурд, разумеется, но у меня было сильнейшее чувство, что стоит мне швырнуть камень в витрину, как я навсегда окажусь вне прежнего мироустройства: я сделаюсь грабителем, вором, грязным шакалом, терзающим мертвое тело вскормившего меня порядка. Какая дурацкая щепетильность на обломках разгромленной вселенной! И все же мне до сих пор приятно вспомнить, что я не сразу утратил цивилизованный облик, что хоть некоторое время я бродил, глотая слюни, среди выставленных яств, и уже устаревшие условности не позволяли мне утолить голод.
Примерно через полмили проблема разрешилась чисто софистическим путем. Поперек тротуара стояло какое-то такси, зарывшись радиатором в витрину кондитерского магазина. Это было уже нечто совсем иное, чем если бы взлом совершил я сам. Я пролез мимо такси и набрал всякой вкусной еды. Но даже тогда во мне говорило что-то от прежних нравственных стандартов: я оставил на прилавке щедрую плату за все, что взял.
Наискосок через улицу был садик. Такие садики разбивают на месте кладбищ при исчезнувших церквах. Старые надмогильные камни сняли и прислонили к кирпичной ограде, на расчищенном пространстве посеяли траву и проложили гравийные дорожки. Под свежей листвой деревьев поставили уютные скамейки, и на одной из них я устроился со своим завтраком.
Здесь было пустынно и тихо. Никто сюда больше не входил, только иногда мимо решетчатой калитки пробредала, волоча ноги, одинокая фигура. Я бросил крошки немногим воробьям, первым птицам, которых я увидел в этот день, и почувствовал себя лучше, наблюдая их дерзкое безразличие к катастрофе.
Покончив с едой, я закурил сигарету. Пока я сидел так, раздумывая, что делать дальше, тишина нарушилась звуками фортепьяно. Играли где-то неподалеку и девичий голос запел балладу Байрона. Я слушал, запрокинув голову и глядя на узор, образованный нежными молодыми листьями в свежем синем небе. Песня смолкла. Замерли звуки рояля. Затем послышались рыдания. Без страсти: тихие, беспомощные, горькие. Не знаю, кто оплакивал свои надежды, певица или другая женщина. Но у меня больше не было сил слушать. Я встал и тихонько вышел обратно на улицу, и некоторое время я видел все словно в тумане.
Даже Гайд-парк-Корнер, когда я добрался туда, был почти пустынен. Несколько покинутых легковых и грузовых машин стояли на улицах. Видимо, очень немногие из них потеряли управление на ходу. Один автобус прошел поперек улицы и остановился в Грин-парке; белая лошадь с обломками оглоблей лежала у памятника артиллеристам, о который она раскроила себе череп. Двигались только люди, немного мужчин и еще меньше женщин. Они осторожно нащупывали путь руками и ногами там, где были поручни и ограды, и медленно брели, выставив перед собой руки, по открытым местам. Кроме того, неожиданно для себя я заметил двух-трех котов, видимо вполне зрячих, воспринимавших новые обстоятельства с самообладанием, которое столь свойственно всем котам вообще. Блуждание в этой сверхъестественной тишине приносило им мало пользы: воробьев было мало, а голубей не было совсем.
Меня все еще магнетически влекло к прежнему центру моего мира, и я пошел по направлению к Пиккадилли. Так я вдруг услыхал неподалеку от себя новый отчетливый звук — равномерное приближающееся постукивание. Я взглянул вдоль Парк-лэйн и понял, в чем дело. Человек, одетый более аккуратно, чем все другие, кого я видел этим утром, торопливо шел в мою сторону, постукивая по стене рядом с собой белой тростью. Услыхав мои шаги, он насторожился остановился.
— Все в порядке, — сказал я. — Идите, не бойтесь.
Я почувствовал облегчение при виде его. Это был, так сказать, обыкновенный слепой. Его черные очки не так смущали меня, как широко раскрытые, но бесполезные глаза остальных.
— Тогда стойте на месте, — сказал он. — Бог знает, сколько дураков уже столкнулись со мной сегодня. Что, черт побери, случилось? Почему так тихо? Я знаю, сейчас не ночь — я чувствую солнце. Что стряслось?
Я рассказал ему все, что знал.
Когда я закончил, он молчал не менее минуты, затем у него вырвался горький смешок.
— Есть в этом одна штука, — сказал он. — Теперь все их проклятое попечительство понадобится им самим.
И он несколько вызывающе расправил плечи.
— Спасибо. Счастливо оставаться, — сказал он и зашагал своей дорогой, держась с преувеличенной независимостью.
Быстрый и отчетливый стук его трости постепенно замер вдали за моей спиной, когда я направлялся вверх по Пиккадилли.
Людей здесь было больше, и я подошел по мостовой среди стоявших в беспорядке машин. На мостовой я гораздо меньше смущал людей, нащупывавших дорогу вдоль стен зданий, потому что, заслышав поблизости от себя шаги, они каждый раз останавливались в готовности к возможному столкновению. Такие столкновения происходили на тротуарах непрерывно, и одно из них показалось мне многозначительным. Молодой человек в хорошо сидящем костюме, при галстуке, выбранном явно на ощупь, и молодая женщина с хныкающим ребенком на руках ощупью двигались навстречу друг другу вдоль витрины магазина. Они столкнулись, молодой человек стал осторожно обходить женщину и вдруг остановился.
— Погодите минутку, — сказал он. — Ваш ребенок зрячий?
— Да, — сказала она. — А я вот ослепла.
Молодой человек повернулся. Он упер палец в стекло витрины и сказал:
— А ну, сынок, посмотри, что там такое?
— Я не сынок, — возразил ребенок.
— Ну же Мэри, скажи джентльмену, — сказала мать укоризненно.
— Там красивые тети, — сказал девочка.
Молодой человек взял женщину за руку и повел ее на ощупь к следующей витрине.
— А здесь что? — спросил он.
— Всякие яблоки, — ответила девочка.
— Отлично! — сказал молодой человек.
Он стащил с ноги туфлю и ударил в стекло каблуком. Он был неопытен, и первый удар не увенчался успехом. Зато после второго звон разбитого стекла эхом прокатился по улице. Молодой человек снова натянул туфлю, осторожно всунул руку в разбитую витрину и принялся шарить там, пока не нашел пару апельсинов. Один он дал женщине, другой протянул девочке. Затем он опять пошарил, нашел апельсин для себя и принялся его чистить. Женщина стояла в нерешительности.
— Но… — начала она.
— В чем дело? — спросил он. — Вы не любите апельсины?

![Джон Уиндэм - День триффидов [День триффидов. Куколки. кукушки Мидвича. Кракен пробуждается]](https://cdn.my-library.info/books/55854/55854.jpg)