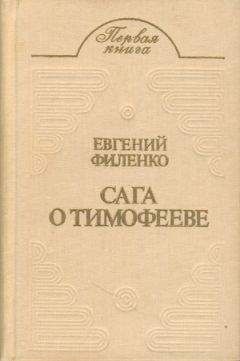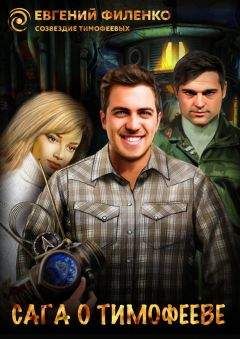— Тесно у тебя, — заметил Фомин. — Тренировка простора требует.
— Я не о том, — отмахнулся Тимофеев. — Что бы ты сделал, если бы на тебя напал нетрезвый хулиган?
— Я бы много чего с ним сделал, — усмехнулся Фомин. — Мой организм не любит, когда на него нападают. В нас эту науку вбили накрепко.
— Мышечная память, — солидно произнес Тимофеев. — Мне нужна твоя мышечная память хладнокровного и умелого бойца. Ты ведь сам порой не задумываешься над тем, что в ней заключено…
Он кивнул в сторону магнитофона «Днепр» образца начала шестидесятых годов, в деревянном корпусе с чернильными кляксами.
— Я перепишу твою мышечную память на магнитную ленту, — пояснил он, — а затем с ленты перекачаю в свои дряблые мускулы. Надеюсь, это пойдет им на пользу.
— Ну, ты даешь, — только и выдавил пораженный Фомин.
Он приметил, что от магнитофона тянется множество тонких проводов к верблюжьему одеялу, небрежно брошенному на диван.
— Послушай, — сказал он. — У тебя вместо датчиков одеяло.
— А что? Пришлось немного обработать верблюжью шерсть, чтобы она проводила импульсы. Но это не проблема, это пустяк по сравнению с самой техникой перезаписи. Однако я решил и эту задачу…
Он умолчал о том, что на преодоление таких немыслимых трудностей его подвигнул образ девушки Светы, беззащитной перед грозящими ей невзгодами и опасностями.
— Что я должен сделать? — спросил опомнившийся Фомин.
— Сесть на диван и закутаться в одеяло.
Фомин взялся за краешек верблюжьей системы датчиков, но замер в сомнении.
— Виктор, — проговорил он. — Ты, конечно, личность незаурядная, и зря тобой не интересуются кому положено. Я тебе доверяю безоговорочно. Но с моей-то мышечной памятью ничего не случится? Она не сотрется?
— Не волнуйся, — успокоил его Тимофеев. — Вспомни, как работают магнитофоны при перезаписи. Главное — не перепутать кнопки.
— И все же… — продолжал колебаться Фомин. — Может быть, я не самая подходящая кандидатура? У меня есть один знакомый мичман — вот кому я всегда завидовал! Он мог бы один против десяти…
— Я избрал тебя не только потому, что ты бывший морской пехотинец, — серьезно ответил Тимофеев, — но и потому что ты мне друг и заведомо хороший человек, мышечная память которого не хранит никаких дурных привычек.
После таких слов Фомин проворно закутался в одеяло.
— Твоя правда — мичман этот, надо признать, большой бабник… — сказал он.
Тимофеев запустил магнитофон, и лента неторопливо стала вбирать в себя все познания бицепсов, трицепсов и квадрицепсов Николая Фомина. Сеанс длился около часа, на протяжении которого Тимофеев напряженно следил за подрагиванием крылышек индикатора, пылавшего зеленым светом, а Фомин прислушивался к самому себе — не уходит ли из него то, что месяцами вдалбливалось инструкторами боевого каратэ. Сохраняя молчание и приличествующую моменту строгость на лицах, они поменялись местами…
— Все, — наконец произнес Тимофеев и, выпростав руку из одеяла, выключил магнитофон.
В теле ощущалась легкая усталость и еще нечто вроде разочарования — словно мышцы были недовольны своей внезапной расслабленностью. Ничего особенного сверх этого Тимофеев не испытывал. В его голову закралась крамольная мысль: что, если не сработало?
Неожиданно он уловил на себе странно напряженный взгляд Николая Фомина.
— Рядовой Тимофеев, — отрывисто сказал тот. — К бою!
— Чего?.. — изумленно переспросил Тимофеев и в этот миг словно пружина подбросила его с дивана.
Тело само приняло оборонительную стойку — одна рука на уровне подбородка, другая перекрывает подступы к животу.
— Моротэ-цуки! — рявкнул Фомин.
— Да брось ты… — пробормотал Тимофеев.
Против воли своего хозяина, оба его кулака вылетели вперед в жестком двойном ударе так, что затрепали кости и заныли не знавшие подобных нагрузок сухожилия.
— Майягери-кикоми! — не унимался Фомин.
Правая нога Тимофеева сама собой сложилась, больно стукнув тощей коленной чашечкой по груди, а затем вонзилась в тело воображаемого противника. Фомин, доселе пребывавший на безопасном расстоянии, вдруг скользнул навстречу Тимофееву, как барс, и нанес быстрый, казавшийся неотразимым, удар в лицо — вроде того, памятного… Но сегодня удивленный донельзя Тимофеев легко поймал руку нападавшего в блок и тут же направил свое колено навстречу — в солнечное сплетение.
— Да, — не без восхищения хмыкнул Фомин, высвобождаясь из захвата. — Такое ощущение, словно сам с собой бьешься. По команде — делай, как я! Полезная штука… — И он задумался о применении тимофеевского замысла в деле обучения салаг-новобранцев в морской пехоте.
Тимофеев, тяжело дыша, весь в поту, повалился на диван.
— Признаться, я не ожидал, — объявил он. — Мышечная память есть, но она не подкреплена физической тренированностью. Организм-то работает на пределе…
— Пустяки, — откликнулся Фомин. — Тренированность — дело наживное, пришлое.
Слова его оказались пророческими, потому что на следующий день в Тимофееве прорезался внутренний голос, интонациями подозрительно напоминавший донора мышечной памяти.
Едва разлепив глаза, народный умелец покосился на будильник.
— Семь часов, — пробурчал он. — Еще рано…
— Что-о?! — с командирскими нотками в тембре возмутился внутренний голос. — Ну-ка, подъем!
— Какой еще подъем? — сонно запротестовал Тимофеев. — Все нормальные люди спят…
— Р-разговорчики! — прикрикнул внутренний голос. — Встать, заправить постель и — пробежечку до седьмого пота!
Мучимый недобрыми предчувствиями, проклинающий фокусы взбунтовавшейся мышечной памяти, Тимофеев был все же вынужден подняться, натянуть старенький тренировочный костюм и дважды обежать квартал под недоуменными взглядами прохожих, прежде чем внутренний голос угомонился. Затем он, изнемогая от зевоты, поплелся к заветному дивану, рассчитывая наверстать упущенный поутру сладкий сон.
— А-атставитъ! — загремело в его потрясенных непосильными нагрузками мускулах. — Смелей, с полотенцем, под холодный душ строевым шагом — марш!..
— Мама… — упавшим голосом прошептал Тимофеев, когда первые ледяные струйки скользнули по его спине.
Содрогаясь крупной дрожью, он вышел из душевой спустя полчаса. «Ну нет, — подумал он, с остервенением растирая пупырчатую кожу махровым полотенцем. — Будем бороться. Иначе грозит утрата индивидуальности…»
Однако, прежде чем он задумался над тем, нужно ли ему сохранение индивидуальности хилого затворника, им был позорно проигран еще один раунд. Едва Тимофеев вернулся в комнату, как его руки сами собой тщательно скомкали пачку папирос, неосмотрительно забытую на столе, и выбросили в мусорную корзину.