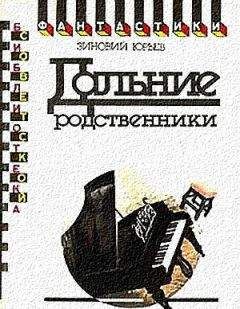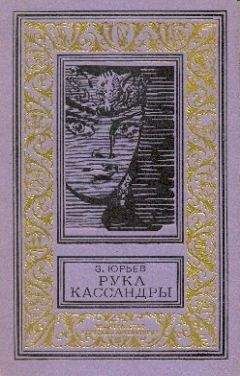«И пахнуть у меня изо рта должно соответственно. Так?» «Наверное».
«Наверное, — усмехнулся он. — Вы, очевидно, никогда не целовались с выпившим человеком. Если это так, позвольте мне в экспериментальных целях поцеловать вас практически в губы. Заполним, так сказать, брешь, в вашем жизненном опыте».
Антонина смеется:
«Смелее, Аньк, ты ж такое вытворять умела…» Я повернула голову, и он поцеловал меня в губы, раскрыв рот таким, знаете, влажным поцелуем. И ни малейшего запаха алкоголя. Он еще раз усмехнулся и так дохнул на меня — ха… Не скажу, чтобы источал он запах свежих роз, но сивушного запаха совершенно не было.
— Вы не устали от моего рассказа, Володенька?
— Что вы, Анна Серафимовна, я слово боялся пропустить.
— Спасибо. Но ведь это не просто возрастные мемуары. Я хотела рассказать вам, что висящий в воздухе пакет с апельсинами вовсе не обязан быть галлюцинацией или фокусом.
— Что же вы хотите сказать, что мой гость — экстрасенс?
— Не просто экстрасенс, а выдающийся экстрасенс, который даже не обращает внимания на свой необыкновенный дар. Режиссер, о котором я вам рассказывала, хрюкал, делал гримасы, тужился, а Хьюм даже не замечал, что иногда парил над креслом, помните?
— Да, — задумчиво кивнул Владимир Григорьевич. — Может быть…
Владимир Григорьевич лежал в темноте и слушал, как дышит спавший Константин Михайлович. Вдыхал он долго, как йог, с легким шипением, а выдыхал сразу, легким выхлопом — пхе… Ему не спалось. Нет, он не мучился от бессонницы, он чувствовал, что стоит ему отпустить тормоза, как он тут же скатится в долину снов. Но не хотелось ему засыпать, не хотелось расставаться с непривычной наполненностью сознания. Душу и память его волновали в эти минуты странные, беспокойные ветры. Они проносились, легкие и озорные, оставляя за собой летучую рябь.
Столько месяцев, может, даже лет жило в нем стоячее болото: ни ветерка, ни просто дуновенья воздуха, ни новых впечатлений, лишь привычное стариковское оцепенение, сменившее острый вначале страх смерти.
А теперь полнился он светлой всепонимающей легкой печалью, настолько легкой, что не давила она, а, наоборот, помогала смаковать жизнь, те капли, что еще оставались. И легкую руку Анечки чувствовал он на своей руке, и хрупкая стариковская нежность непривычно и мягко тянула за сердце. Нежность чистейшая, выросшая не на гормональной закваске, как у молодых влюбленных, а из душевной симпатии. Нежность хрупкая и сильная, как травинка, лезущая вверх через трещинку в асфальте. И вспоминал он Наденьку, свою жену. Боже, неужели она умерла уже двадцать четыре года назад? Кажется, только вчера он говорил ей:
«Ты, Надька, подумай как следует, ведь за старика идешь».
Надежда, которой было тогда… Да, перед самой войной, в сороковом году, двадцать лет, поднимала на него смеющиеся глаза, притворно вздыхала и задумчиво кивала:
«И то ведь верно, батюшка, за старчика иду».
Сколько же было тогда старчику? Тридцать два года. Ну, конечно, тридцать два, а Надежде двадцать, была она его моложе на двенадцать лет и училась тогда на филфаке.
«Смотри, Надежда, не ошибись, — еще раз говорил он серьезно. — Знаю ведь, по расчету идешь, а расчет-то пшиковый. Что у меня есть-то, у журналистика? Старый «ундервуд» модели одна тысяча двенадцатого года, вечная ручка «паркер» с золотым пером и треснувшим колпачком, костюм полушерстяной бэу и четырнадцать метров в доме с коридорной системой на Рождественке напротив архитектурного института».
«А-ить и то немало, батюшка», — по-старушечьи склонив милую свою головку набок, кивала Наденька. Такая была озорница, игрунья, сразу хотелось ей играть сто ролей: и чеховской старушки, и женщины-вамп, и простодушной комсомолочки, и влюбленной душечки… И оттого глаза ее всегда смеялись, и лексику путала от нетерпения. Так, так, скажет, батьюшка, же ву при, мсье Харин…
Веселая, как птичка, обожавшая танцевать. Вскоре после свадьбы купили они патефон. Вначале была у них единственная пластинка. На одной стороне фокстрот… гм… да, веселенький такой фокстротик, конечно, он еще назывался «Девушка играет на мандолине». На-на-на… Танцевали они преимущественно рано утром. Он всегда просыпался первым и, побрившись, заводил патефон, целовал Надю в нос и восклицал:
— Надежда, девушка и мандолина готовы, позвольте пригласить вас на тур фокстрота.
Надя выпрыгивала из постели в длинной своей ночной рубашке, заспанная, излучающая еще ночное сонное тепло, делала книксен, говорила «мерси, Вольдемар», прыскала со смеху и клала ему руку на плечо. Они танцевали под прыгающую мелодию фокстрота, а она напевала в такт дурашливые придуманные слова: за-хотелось ста-рику пе-ре-плыть Моск-ву-ре-ку, до середки до-тянул, а по-том и уто-нул. При этом он живо представлял себя, седовласого старика, почему-то обязательно в белой нательной рубахе, который, отдуваясь, отплевываясь, плывет по Москве-реке, все реже и реже показывается на поверхности.
А вскоре одним прекрасным утром Надя добавила:
«Однако, гражданин Харин, седни будем мы плясать утроем». — На этот раз играла она роль темной бабы.
«Ето почему ж?» — в тон ей спросил он. Неужели…
«А потому, товарыщ, что жена ваша понесла. То есть тяжелая, обрюхатевшая. Выражаясь опять же научно, забеременевшая…» О господи, мысленно воскликнул Владимир Григорьевич, неужели это было? Какая длинная у него жизнь. Отмерил ему кто-то, что называется, с походом. И счастье было, и горе.
В сорок первом году почти два месяца он был в окружении. И уже не военным корреспондентом, а простым солдатом, измученным и оборванным, пробирался он к своим, через пять кругов ада прошел, чтобы какой-то пухлый чистенький смершевец спрашивал его с ухмылкой:
— Это что же вы хотите сказать, что целых два месяца не могли выйти из окружения?
— Ну и сволочь вы, — сказал Владимир Григорьевич. Он валился с ног от нечеловеческой усталости, он руку дал бы отрубить, чтобы только узнать, что с Надей, где она, а тут эта ухмыляющаяся гадина. Он понимал, что совершает нечто непоправимое, но он падал, и не было сил остановить падение.
— Как ты смеешь, немецкий выбл… — смершевец вскочил и схватился за новенькую скрипучую кобуру.
Владимир Григорьевич рванул вверх край стола, опрокидывая его, раздался грохот, кто-то вскочил в комнату, и сквозь густеющий туман обморока Владимир Григорьевич услышал голос:
— Харин, неужели ты?
Не случись тут знакомый корреспондент из «Комсомолки», неизвестно еще, как бы все обернулось.
Надя была в Москве, но не одна, а с крошечным комочком, который она почему-то называла Валентиной, хотя комочек имени еще явно не заслуживал.