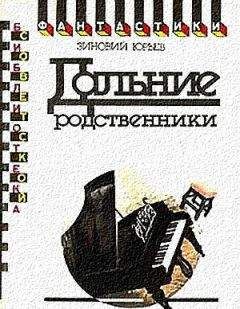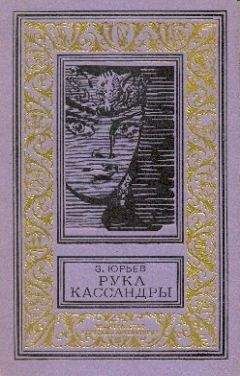Врач «Скорой помощи», которого он разыскал, сказал ему:
«Смерть была мгновенной. Ваша дочь даже не успела, наверное, сообразить, что происходит».
Что ж, тоже утешение. Раз не успела сообразить, значит, и не знает, что умерла… Вот и остался один на белом свете отставной драматург семидесяти восьми лет Владимир Григорьевич Харин. Один лишь внук бороздит, выражаясь газетным языком, далекие моря и океаны.
Появилась Анечка. Она держала в руке пакет. С апельсинами, догадался Владимир Григорьевич. Однако странно было, что в комнате темно, а он ее отлично видит: подведенные глазки, которые она таинственно округляет, когда рассказывает что-нибудь интересное, оранжевые волосики. Анечка разжала руки, и пакет поплыл по комнате, долетел до стены, и на стене осталась отметка: 7 футов. Это уже было вовсе несерьезно, и Владимир Григорьевич понял, что спит.
Юрий Анатольевич шел по коридору по направлению к Лениной комнате и думал о том, что сентиментальным быть плохо. Сентиментальным никогда не подойти к «Жигулям», не открыть хозяйским жестом дверцу и не опуститься в кресло. Сентиментальным нужно вкалывать, хлюпая при этом носом от умиления. Сентиментальному нужно идти проведать старика Харина, чтобы посмотреть, как поживает его лучший пациент. Еще бы несколько человек с таким драматическим улучшением, и можно было бы подумать о диссертации. Что-нибудь вроде «Новые методы реабилитации после инсультов». А что…
Не то из стены, не то из-под пола появился Ефим Львович и сказал:
— Здравствуйте, доктор. А Владимир Григорьевич исчез.
Не вовремя появился вездесущий старый театральный художник, не вовремя, потому что прервал триумфальную защиту диссертации. В тот самый момент прервал, когда седенький профессор, мировая величина, говорил:
«Мне кажется, коллеги, что результаты, полученные диссертантом, столь значительны, что работа скорее носит характер докторской…» — Как исчез? — вздохнул Юрий Анатольевич. Жалко было такой удачной защиты, иди, защищайся потом еще раз…
— Как исчезают? — пожал плечами художник и обиженно выпятил сизую нижнюю губу. — Так и исчезают.
— То есть? Ничего не понимаю.
Ефим Львович объяснил терпеливо, как растолковывают простые вещи несмышленому ребятенку:
— Утром у него были посетители, приятели внука, а потом его никто больше не видел.
— Что за вздор! — рассердился доктор. — Как это не видел?
Ефим Львович вздохнул и покачал головой, как бы желая сказать: боже, такой непонятливый — и врач. И такой должен лечить людей. Что ж удивительного, что люди болеют и умирают, с таким и не то может случиться.
— Как не видят людей, Юрий Анатольевич? Не видят. Смотрят и не видят. Его искала…его приятельница Анна Серафимовна. Его искала сестра Леночка… Елена Николаевна. Я, наконец, искал. — Последние слова должны были, казалось, значить: если уж я не нашел, то говорить не о чем. Хвастаться Ефим Львович не любил, но и достоинства свои знал.
— И что, его нигде нет?
— Нет.
— И в саду искали?
— И в саду искали.
— Может быть, он у кого-нибудь в комнате?
— Нет.
— Что за чепуха! Не мог же он уйти в город… Хоть он и чувствует себя в последние дни значительно лучше, но не настолько же, чтобы уйти самому с территории. Может быть, он пошел проводить своих гостей? Ну, конечно же, даже и сомневаться нечего. Наверняка он где-то здесь. Не мог он уйти. Вы что — забыли, что он только что еле двигался?
— Нет, конечно.
— Так в чем вы меня хотите убедить?
— Только в том, что Владимир Григорьевич исчез.
— Этого не может быть.
— Может, может. Они, гости и он, были утром, сразу после завтрака, а сейчас уже час, даже начало второго.
Юрий Анатольевич ничего не ответил, быстро дошел до Лениного пенала, постучал и открыл дверь. Лены тоже не было, хотя в это время она всегда занималась своей писаниной.
В шестьдесят восьмой комнате он застал Константина Михайловича. Он поднялся с кровати, на которой лежал одетый, и бульдожьи его щеки колыхнулись от резкого движения.
— Вы не видели соседа? — спросил Юрий Анатольевич, забыв поздороваться.
Константин Михайлович начал быстро застегивать правой рукой пуговицы, которых на его курточке с «молнией» не было.
— А? А… Владимира Григорьевича? Да, конечно…
Слава богу, вздохнул про себя Юрий Анатольевич, впал отчего-то в панику, идиот.
— Где же он был?
— Кто? А…
— Владимир Григорьевич, — нетерпеливо сказал доктор.
— Не знаю. Э… а…
— А где он сейчас?
— Сейчас? М… э… да, конечно, я видел его… к нему пришли… от внука… Абер дас ист…
— Да, да, я знаю, — нетерпеливо кивнул Юрий Анатольевич и автоматически отметил, что Лузгин опять, похоже, сдал. Улучшение было кратковременным и нестойким.
— А с утра вы его не видели?
— Нет… никогда… то есть, я хотел сказать, нигде не видел. Абер дас ист ниче-е-во-о…
— Простите.
Он вышел в коридор. Мимо шел величественный Иван Степанович Котомкин, зажав под мышкой целую пачку газет.
— Добрый день, кивнул ему Юрий Анатольевич, вы не видели Владимира Григорьевича?
Иван Степанович побулькал чем-то внутри себя, покачал головой и неодобрительно сказал:
— Вчера видел.
Юрий Анатольевич вышел во двор, и тут же к нему подскочила Анна Серафимовна.
— Как хорошо, что вы появились, доктор, я так беспокоюсь. Представляете, он исчез!
— Что значит «исчез»? — раздраженно сказал Юрий Анатольевич. — Пошел проводить своих гостей. Даже не пошел, а просто вышел.
— Но они ушли уже больше трех часов тому назад, представляете? — Она кивнула несколько раз головой, и оранжевая прядка над ее лобиком испуганно вздрогнула.
Что за паникерша, раздраженно подумал Юрий Анатольевич.
— Ну и что, что три часа? Разве не могли его гости свозить его куда-нибудь? — Ну, конечно же, подумал он облегченно, как он сразу не сообразил, — В конце концов, у нас же не тюрьма.
Он явственно представил себе гостей Владимира Григорьевича, увозящих старика куда-нибудь к общим знакомым, в магазин, мало ли куда можно поехать на такси в таком городе, как Москва. Съездили и сейчас вернутся. Наверное, машина с шашечками уже подъезжает к Дому. Наверняка, поправил он себя, не наверное, а наверняка.
— Он не мог уехать, — упрямо сказала Анна Серафимовна.
— Почему?
— Потому что… потому что, если бы он уезжал, он бы… не знаю… у меня предчувствие, что с ним что-то случилось.
— Ну, раз предчувствие — тогда другое дело, — с какой-то ненужной иронией сказал Юрий Анатольевич.