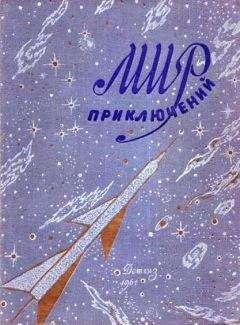— Беззащитную да безобидную животную можно убивать, выходит, а лютую тигру — нет?
Андрей сидел, облокотившись о колени, и молчал.
Савельич разжег костер. В ярком свете солнечного дня пламя было почти невидимо, только курился высоко над сучьями сизый дым, поднимался столбом и распластывался над вершинами.
— Покажи-ка ногу, — сказал Савельич.
Андрей размотал рубашку, которой была обернута раненая нога.
— Однако, как же ты шел?
— Вот так.
Дормидонтович глянул на ногу Андрея через плечо Савельича, потом полез в котомку, достал бинт:
— Этак на одной можно остаться.
Андрей благодарно кивнул ему:
— Подживет.
— Спирт достань, свояк. Первое дело — спирт. Видишь, куда огонь пошел.
Промыв спиртом рану, Савельич передал бутылку свояку. Тот, прикинув глазом, что там осталось добрая половина, залпом осушил бутылку, понюхал обшлаг суконной куртки:
— Коль тигров на волю отпускают, то это совсем не грех. Ты, Андрюха, подумал, что зверь-то всем нам принадлежал, не один ты хозяин? А? Подумал? Свадьбу-то играть на что станешь? Али втихую его дочку к себе перетянешь? У нас такого обычая нет. У нас с этим делом строго.
Андрей и Савельич молчали.
— Во второй тигре твоей доли нету, — отрезал Дормидонтович.
— Коли хочет за меня, подождет, — не стерпел Андрей.
Разрывая бинт, чтобы закрепить повязку, Савельич с сердцем сказал:
— Круто берешь, парень.
— Каков есть, Игнат Савельич.
Поднявшись, Прокопьев сказал, обращаясь к свояку:
— Нарты связать надо. Не сможет он идти.
— Дойду.
— Ты, парень, не ершись. Постарше тебя, знаем, — проговорил Савельич. — Сказано- на нартах. Нарежем ремней из шкуры косули и свяжем нарты.
Так и сделали.
Доставив Андрея в райцентр в больницу, охотники договорились с ним об отлове восьми кабаньих подсвинков и ко времени, когда он выздоровел, были уже дома. Ловля прошла удачно.
Пасмурным утром, когда Андрей вернулся в поселок, Савельич ненароком видел в окно, как Аннушка разговаривала с Андреем, и догадался, о чем шла речь. И, хотя он не обмолвился с дочерью ни единым словом о своем отношении к поступку Андрея, он знал, что среди охотников в поселке ходят про охотоведа нелестные слухи. Но Савельич отмахивался. И теперь, глядя на ссутулившуюся спину ковылявшего к своему дому Андрея, Прокопьев понял, что настал его срок сказать свое слово.
И, когда Анна пришла в дом, Савельич хлопнул ладонью по столу:
— Не твое дело путаться в мужские дела.
И, сказав это, подумал, что начал совсем не с того, с чего надо. Анна покосилась на отца заплаканными глазами и, резко скинув с плеч полушубок, ответила:
— А ты не лезь в бабьи! — И вдруг, опустившись на лавку, заплакала снова. — Сами затравили меня. Как мне жить-то с ним после таких насмешек? Разве можно мне с ним… Эх, люди!
— Кому ты такая нужна? — сказал Савельич и опять подумал, что не то говорит, не о том.
Анна вскинула на отца заплаканное лицо, по-детски вытерла пальцами слезы:
— Ему тигра дороже меня. Он любовь мою по ветру пустил. А ты все молчишь, молчишь. Смеются над ним, а ты молчишь. И ты с ними!
И вдруг, поднявшись с лавки, Анна подошла к отцу и сказала шепотом:
— А я не могу без него. Все равно уйду.
— Иди, я не против. Только ведь стыдно, когда курицу яйца учить начинают. Не к чему, однако, тигру-то было убивать. Отпустить-то — это вернее. Потому как гибнет краса тайги. Зол еще больно, жесток человек, надо не надо, тянет из тайги. А он по-хозяйски. И смеялись-то над ним потому, что самим горько было. Обидела-то ты его крепко.
Аннушка кивнула.
— Ну и поди, скажи: мол, сдуру, понапрасну.
Анна выпрямилась:
— Еще чего? Сам пусть опять придет. Коль любит, придет. А не придет — сама пойду. Через неделю.
— Круто гнешь, Анна.
— Мне с ним жить, не тебе.
Печатается с сокращениями.