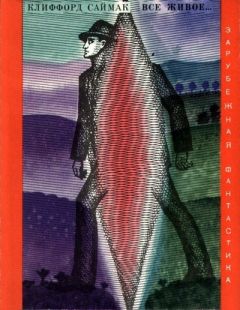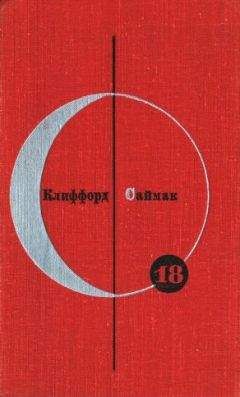Я вылез из машины и остановился. В лунном свете угрюмой горбатой тенью чернел дом; поодаль, за углом, поблескивали под луной два или три уцелевших стекла обветшалых, вросших в землю теплиц. И чуть виднелась макушка вымахавшего рядом с ними вяза. Помню, много лет назад я заметил нечаянно пробившийся побег — слабый, тоненький прутик — и хотел его выдернуть, но отец не позволил: дерево имеет такое же право жить, как и все мы, сказал он. Так и сказал: такое же право, как и мы. Удивительный человек был мой отец, в глубине души он верил, что цветы и деревья чувствуют и думают, как люди.
И опять я ощутил слабый аромат лиловых цветов, вольно разросшихся вокруг теплиц, — тот самый аромат, которым меня обдало у веранды Шервудов. Но магического круга на этот раз не было.
Я обогнул дом и остановился: в кухне горел свет. Наверно, забыл погасить, подумал я… Впрочем, хоть убей, не помню, что бы я его зажег.
Но и дверь кухни оказалась открытой, а я точно помнил, как, уходя, захлопнул ее, да еще толкнул ладонью, проверяя, защелкнулся ли замок, и только потом пошел к машине.
Может быть, кто-то меня ждет или в доме побывал вор и все очистил, хотя, бог свидетель, поживиться у меня нечем. А может, ребята озоровали — есть у нас такие шалые, никакого удержу не знают.
Несколько быстрых шагов — и я так и стал посреди кухни. Тут и впрямь был посетитель, меня ждали.
На табурете сидел Шкалик Грант; он согнулся в три погибели, прижал обе руки к животу и медленно раскачивался из стороны в сторону, словно от боли.
— Грант! — крикнул я.
В ответ он то ли застонал, то ли замычал.
Опять нализался. Пьян вдрызг, в стельку, и как он умудрился допиться до такого состояния на тот мой несчастный доллар? А может, он сперва выпросил и еще у двоих или троих, чтобы уж сразу налакаться всласть?
— Грант, — зло повторил я, — какого черта?
Я обозлился всерьез. Пусть его пьет, сколько влезет, это не моя забота, но по какому праву он врывается ко мне в дом?
Шкалик опять простонал, свалился с табурета и нелепой кучей тряпья шмякнулся на пол. Что-то выпало из кармана его драной куртки, забренчало, зазвенело и покатилось по истертому линолеуму.
Я опустился на колени и с немалым трудом кое-как перевернул пьянчугу на спину, физиономия у него была распухшая, вся в багровых пятнах, дыхание неровное, прерывистое, но перегаром от него не пахло. Не веря себе, я наклонился пониже — нет, он явно трезвый!
— Брэд! — пробормотал он. — Это ты, Брэд?
— Я, я, не волнуйся. Сейчас я тебе помогу.
— Уже скоро, — зашептал он. — Времени в обрез.
— Что скоро?
Но он не ответил. Его одолел приступ удушья. Он силился что-то сказать и не мог, слова душили его, застревали в горле.
Я вскочил, кинулся в гостиную, зажег свет у телефона. Второпях, бестолково и неуклюже стал листать телефонную книжку, все время подворачивались не те страницы. Наконец я отыскал номер доктора Фабиана, набрал и стал ждать: в трубке раздавался гудок за гудком. Хоть бы старик был дома, хоть бы не укатил куда-нибудь по вызову! Если его нету, никто не отзовется, на миссис Фабиан надеяться нечего. У нее жестокий артрит, она еле ползает. Доктор всегда старается залучить кого — нибудь, чтоб присматривали за ней, когда его нет дома, и отвечали на звонки, но это ему не всякий раз удается. Миссис Фабиан — старуха нравная, на нее не угодишь, и сносить ее придирки никому не охота.
Наконец доктор снял трубку, и у меня гора с плеч свалилась.
— Док, — сказал я, — у меня тут Шкалик Грант, с ним что-то неладно.
— Пьян, наверно.
— Да нет, не пьян. Прихожу домой, а он сидит у меня на кухне. Его всего скрючило, и он что-то лопочет.
— Что же он лопочет?
— Не знаю. Говорить не может, лопочет, не поймешь что.
— Хорошо, — сказал доктор Фабиан, — сейчас приеду.
Надо отдать старику справедливость: на него можно положиться. Днем ли, ночью, в ненастье ли — никогда не откажет.
Я вернулся в кухню. Грант перекатился на бок, он по-прежнему держался обеими руками за живот и тяжело дышал. Я не стал его трогать. Доктор скоро будет, а до тех пор я ничем не могу помочь. Уложить поудобнее? А может, ему удобней лежать на боку, а не на спине?
Я подобрал металлический предмет, который выпал у Гранта из кармана. Это оказалось кольцо с полдюжиной ключей. На что ему, спрашивается, столько ключей? Может, он их таскает для пущей важности — воображает, будто они придают ему весу?
Я положил ключи на стол, вернулся к Шкалику и присел подле него на корточки.
— Я звонил доку, Грант, — сказал я. — Он сейчас приедет.
Шкалик, кажется, услыхал. Минуту — другую он пыхтел и захлебывался, потом выдавил из себя прерывистым шепотом:
— Больше помочь не могу. Ты остаешься один.
У него это вышло далеко не так связно — какие-то клочки, обрывки слов.
— Про что это ты? — спросил я, как мог мягко. — Объясни-ка, в чем дело.
— Бомба, — сказал он. — Они захотят пустить в ход бомбу. Не давай им сбросить бомбу, парень.
Не зря я сказал доктору Фабиану, что Грант не говорит, а лопочет.
Я вышел к парадной двери поглядеть, не видно ли доктора, и тут он как раз показался на дорожке.
Он прошел впереди меня в кухню и постоял минуту, глядя на Шкалика сверху вниз. Потом отставил свои чемоданчик, тяжело опустился на корточки и повернул Гранта на спину.
— Как самочувствие? — спросил он.
Шкалик не ответил.
— Глубокий обморок, — сказал доктор.
— Он только что со мной говорил.
— Что же он сказал?
Я покачал головой:
— Да так, чушь какую-то.
Доктор Фабиан вытащил из кармана стетоскоп и стал слушать сердце Гранта. Потом вывернул ему веки и посветил в глаза. Потом медленно поднялся на ноги.
— Что с ним? — спросил я.
— Шок. Не понимаю в чем дело. Надо бы свезти его в Элмор, в больницу, и там обследовать по всем правилам.
Доктор устало повернулся и побрел в гостиную.
— Где у тебя телефон?
— В углу, возле лампы.
— Позвоню Хайраму, — сказал доктор. — Он отвезет нас в Элмор. Гранта уложим на заднее сиденье, я сам тоже поеду, пригляжу за ним.
На пороге он обернулся:
— У тебя найдется парочка одеял? Надо его укутать потеплее.
— Что-нибудь найду.
Я пошел за одеялами. Когда вернулся, доктор уже снова был на кухне. Вдвоем мы спеленали Гранта, как младенца. Он был весь обмякший, будто без костей, по лицу его ручьями струился пот.
— Непостижимо, как еще в нем душа держится, — сказал доктор Фабиан. — Живет в этой своей развалюхе у самого болота, хлещет спиртное подряд, без разбору, питается вообще неизвестно чем. Ест всякую дрянь, сущие помои. И за последние десять лет навряд ли хоть раз толком вымылся.-Старик вдруг вспылил: — Черт знает, до чего безобразно иные субъекты относятся к собственному телу.