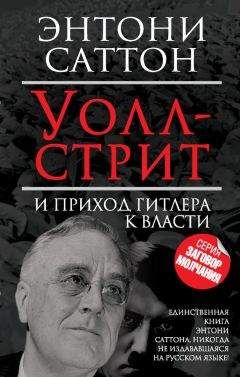– Вера? Что с тобой?
– О боже, благодарю тебя, да исполнится воля твоя! Мой Джонни! Ты вернул мне сына, я знала, ты не останешься глух к моим мольбам… Мой Джонни, о боже милостивый, я буду благодарить тебя все дни моей жизни за Джонни… Джонни… ДЖОННИ.
Ее голос превратился в истерический, торжествующий крик. Герберт подошел, схватил жену за отвороты халата и встряхнул. Время вдруг словно пошло вспять, вывернувшись, подобно какой-то странной ткани, наизнанку, они как бы вновь переживали тот вечер, когда им сообщили об автомобильной катастрофе – по тому же телефону, в том же месте.
В том же месте с нами вместе, пронеслось у Герберта в голове нечто несуразное.
– О боже милосердный, мой Иисус, о мой Джонни… чудо, я же говорила: чудо…
– Вера, прекрати!
Взгляд ее потемнел, затуманился, стал диковатым.
– Ты недоволен, что он очнулся? После всех этих многолетних насмешек надо мной? После всех этих рассказов, что я сумасшедшая?
– Вера, я никому не говорил, что ты сумасшедшая.
– Ты говорил им глазами! – прокричала она. – Но мой бог не был посрамлен. Разве был, Герберт? Разве был?
– Нет, – сказал он. – Пожалуй, нет.
– Я говорила тебе. Я говорила тебе, что господь предначертал путь моему Джонни. Теперь ты видишь, как воля божья начинает свершаться. – Она поднялась. – Я должна поехать к нему. Я должна рассказать ему. – Она направилась к вешалке, где висело ее пальто, по-видимому забыв, что на ней халат и ночная рубашка. Лицо ее застыло в экстазе. Герберт вспомнил, как она выглядела в день их свадьбы, и это было чудно и почти кощунственно. Она втоптала кукурузные зерна в ковер своими розовыми шлепанцами.
– Вера.
– Я должна сказать ему, что предначертание господа…
– Вера.
Она повернулась к нему, но глаза ее казались далекими-далекими, она была вместе с Джонни.
Герберт подошел и положил руки на плечи жены.
– Ты скажешь, что любишь его… что ты молилась… ждала… У кого есть большее право на это? Ты мать. Ты так переживала за сына. Разве я не видел, как ты исстрадалась за последние пять лет? Я не сожалею, что он снова с нами, ты не права, не говори так. Я вряд ли буду думать так же, как ты, но совсем не сожалею. Я тоже страдал.
– Страдал? – Ее взгляд выражал жестокость, гордость и недоверие.
– Да. И еще я хочу сказать тебе, Вера. Прошу тебя, перекрой обильный фонтан твоих рассуждений о боге, чудесах и великих предначертаниях, пока Джонни не встанет на ноги и полностью не…
– Я буду говорить то, что считаю нужным!
– …придет в себя. Я хочу сказать, что ты должна предоставить сыну возможность стать самим собой, прежде чем навалишься на него со своими идеями.
– Ты не имеешь права так говорить со мной! Не имеешь!
– Имею, потому что я отец Джонни, – сказал он сурово. – Быть может, я прошу тебя последний раз в жизни. Не становись на дороге сына, Вера. Поняла? Ни ты, ни бог, ни страдающий святой Иисус. Понимаешь?
Она отчужденно смотрела на него и не отвечала.
– Ему и без того будет трудно примириться с мыслью, что он, точно лампочка, был выключен на четыре с половиной года. Мы не знаем, сможет ли он снова ходить, несмотря на помощь врачей. Мы лишь знаем, что предстоит операция на связках, если еще он захочет; об этом сказал Вейзак. И, наверно, не одна операция. И снова терапия, и все это грозит ему адовой болью. Так что завтра ты будешь просто его матерью.
– Не смей так со мной разговаривать! Не смей!
– Если ты начнешь свои проповеди, Вера, я вытащу тебя за волосы из палаты.
Она вперила в него взгляд, бледная и дрожащая. В ее глазах боролись радость и ярость.
– Одевайся-ка, – сказал Герберт. – Нам нужно ехать.
Весь долгий путь в Бангор они молчали. Они не испытывали счастья, которое должны были бы оба испытывать; Веру переполняла горячая, воинственная радость. Она сидела выпрямившись, с Библией в руках, раскрытой на двадцать третьем псалме.
На следующее утро в четверть десятого Мари вошла в палату к Джонни и сказала:
– Пришли ваши родители. Вы хотите их видеть?
– Да, хочу. – В это утро он чувствовал себя значительно лучше и был более собранным. Но его немного пугала мысль, что он сейчас их увидит. Если полагаться на воспоминания, последний раз он встречался с родителями около пяти месяцев назад. Отец закладывал фундамент дома, который теперь, вероятно, стоит уже года три или того больше. Мама подавала ему фасоль, приготовленную ею, яблочный пирог на десерт и кудахтала по поводу того, что он похудел.
Слабыми пальцами он поймал руку Мари, когда та собиралась уйти.
– Как они выглядят? Я имею в виду…
– Выглядят прекрасно.
– Что ж. Хорошо.
– Вам можно побыть с ними лишь полчаса. И немного еще вечером, если не очень устанете, после исследований в неврологии.
– Распоряжение доктора Брауна?
– И доктора Вейзака.
– Хорошо. По крайней мере пока. Не уверен, что я позволю им долго меня щупать и колоть.
Мари колебалась.
– Что-нибудь еще? – спросил Джонни.
– Нет… не сейчас. Вам, должно быть, не терпится увидеть ваших. Я пришлю их.
Он ждал и нервничал. Вторая койка была пуста; ракового больного убрали, когда Джонни спал после укола.
Открылась дверь. Вошли мать с отцом. Джонни пережил шок и тут же почувствовал облегчение; шок, потому что они действительно постарели; облегчение, потому что не намного. А если они не так уж изменились, вероятно, то же самое можно сказать и о нем.
Но что-то все-таки в нем изменилось, изменилось бесповоротно – и эта перемена могла быть роковой.
Едва он успел так подумать, как его обвили руки матери, запах ее фиалковых духов ударил в нос, она шептала:
– Слава богу, Джонни, слава богу, что ты очнулся, слава богу.
Он тоже крепко обнял ее, но в руках еще не было силы, они тут же упали – и вдруг за несколько секунд он понял, что? она чувствует, что? думает и что? с ней случится. Потом это ощущение исчезло, растворилось, подобно темному коридору, который ему привиделся. Когда же Вера разомкнула объятия, чтобы взглянуть на Джонни, безудержная радость в ее глазах сменилась глубокой озабоченностью. Он непроизвольно произнес:
– Мам, ты принимай то лекарство. Так будет лучше.
Глаза матери округлились, она облизнула губы – Герберт был уже около нее, он еле сдерживал слезы. Отец похудел – не настолько, насколько поправилась Вера, но все же заметно. Волосы у него поредели, однако лицо осталось таким же – домашним, простым, дорогим. Он вытащил из заднего кармана большой цветной платок и вытер глаза. Затем протянул руку.