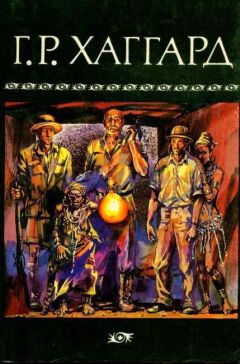– Не я, – не поднимая глаз, ответил Кононов, чувствуя себя последним подлецом. – Я тогда еще не работал в первой городской. Видите ли, Николай Алексеевич... Вашей жене, Галине Михайловне, больше нельзя рожать... и забеременеть тоже нежелательно... Могут возникнуть осложнения... в силу специфики организма... Я узнал, что вы здесь, хотел позвонить, а потом подумал, что по телефону о таких вещах не совсем удобно. У меня сегодня выходной, вот и решил прокатиться. И, думаю, мой коллега не совсем прав: ставить в известность нужно не Галину Михайловну, а вас, Николай Алексеевич... А вот ее как раз в известность ставить и не надо.
Отец пошевелился. Кононов чувствовал на себе его взгляд, но продолжал сидеть с опущенной головой, блуждая глазами по бурым сосновым иглам и сухим шишкам, разбросанным в утоптанной траве под ногами.
– Это очень серьезно... доктор? Требуется операция? – голос у отца теперь стал не только глухим, но еще и каким-то надтреснутым.
– Никакой операции не требуется и никакой угрозы здоровью нет. Это не болезнь, а особенность организма. Поверьте, Николай Алексеевич, есть немало женщин, которым не рекомендуется рожать во второй раз.
– Не болезнь... – обронил отец, и по его тону было понятно, что он не очень-то верит в искренность «гинеколога».
Кононов повернул голову и впервые с начала разговора взглянул на отца. И сказал со всей уверенностью, на которую был способен, и у него получилось убедительно, потому что на этот раз он не лгал:
– Николай Алексеевич, даю вам честное слово: это не болезнь. И поверьте мне, пожалуйста: ваша жена доживет, как минимум, до следующего тысячелетия.
Это Кононов знал наверняка. А вот отцу не доведется проверить истинность этого утверждения, потому что для него все сроки закончатся гораздо раньше. В девяносто третьем...
Кононову вдруг неудержимо захотелось открыться отцу, рассказать всю неправдоподобную правду – и он изо всех сил стиснул зубы. В том-то и дело, что правда была именно совершенно неправдоподобной – а какими фактами он мог ее подтвердить?.. «Я – ваш сын, Николай Алексеевич. Тот, который сейчас в Калинине, трехлетний. Я – это он и есть, только из будущего, и он – это я. Машина, понимаешь, времени...» Ну, и какой можно ожидать реакции на подобное заявленьице? «Бурашевский», – подумает отец. Под Москвой – Белые Столбы, а под Калинином – Бурашево. Областная «психушка».
Отец долго и внимательно смотрел на него, и было видно, что он успокаивается. Потому что и малому, и большому было известно: советский доктор не может врать! А значит, действительно, все в порядке, ну а насчет второго ребенка, насчет братика или сестрички сынишке Андрюше – что ж, можно прожить и без второго ребенка, живут же люди, лишь бы с Галей, с Галочкой, с Галчонком все было хорошо.
– Спасибо, доктор, я все понял, – наконец произнес отец. Помялся, слегка покраснел, расцепил пальцы. Добавил смущенно: – Будем... буду предохраняться.
– Вы уж нас извините, Николай Алексеевич, – поспешно сказал Кононов, чтобы отец забыл о своей неловкости. – Проморгали.
– Может, это и к лучшему, что Гале ничего не сообщили, – отозвался отец. – Вы правы, ей это знать совсем ни к чему. Спасибо, что приехали. А телефон у нас третий день не работает, между прочим. Скоро подъем, на полдник у нас чай с ватрушками. Пойдемте в столовую, попьем чайку.
– С удовольствием, – Кононов вновь взглянул на повеселевшего молодого мужчину, который когда-то катал его на санках и учил играть в шахматы, и носил на плечах на первомайской и ноябрьской демонстрациях, и читал ему сказки, и... – А вы, Николай Алексеевич, нас не забывайте, приходите. И не только когда, не дай Бог, прихватит, а так, для профилактики. Главное ведь – профилактика, чтобы потом не лечиться.
Он знал, что слова эти совершенно бесполезны, что ни за какие коврижки отец добровольно не пойдет в больницу ради какой-то там профилактики, но тешил себя единственной мыслью: впереди еще целых двадцать с гаком лет и все еще можно изменить. И с мамой тоже...
«Вот и все, – думал он, шагая рядом с отцом мимо лагерной линейки с поднятым флагом. – Задание выполнено... Вот и все...»
Да, задание было выполнено, и жизнь продолжалась – он будет жить здесь, в мире собственного детства, и состарится здесь, и умрет в назначенный час, как умирали, умирают и будут умирать все родившиеся под этими небесами. Он потерял брата, но обрел маму и отца, вновь обрел маму и отца – и обрел самого себя, трехлетнего... Он найдет предлог, он напросится в гости, он будет хранителем этой семьи и своим собственным хранителем... Ради этого стоило жить. Ради этого стоило вернуться в прошлое.
Он шел к знакомой столовой мимо танцплощадки, беседок и качелей, и солнце детства безмятежно светило сквозь ветви высоких сосен, и все было хорошо в этом лучшем из миров...
«А ведь если мама не будет рожать, то и операцию ей потом делать не будут, – подумал он. – И это тоже хорошо, это просто здорово. Может быть, именно после той операции у нее все и началось...»
– Знаете, доктор, вы мне кого-то напоминаете, – сказал отец. – Мы с вами раньше не встречались?
– Все может быть, – ответил Кононов после некоторой заминки, стараясь, чтобы его голос звучал ровно. – Город не такой уж и большой.
– Да, город небольшой, – согласился отец. – Зато Москва рядом, и в Ленинград, если нужно, не так сложно махнуть.
– Запросто, – поддержал тему Кононов. – За выходные можно и в Москве, и в Питере побывать, если «Русской тройкой».
Он сказал это и тут же запоздало прикусил язык, потому что никакого сверхскоростного экспресса «Русская тройка» не было еще и в помине. Но отец, похоже, принял эти слова за подобие шутки.
– На тройке Радищев ездил, а мы на «Красной стреле», – сказал он, открыл дверь столовой и сделал приглашающий жест. – Прошу.
Кононов вошел в столовую и услышал, как где-то возле дач хрипловато задудел горн, возвещая об окончании «мертвого часа». «Вставай, вставай, порточки надевай! – всплыло в памяти давнее, пионерское. – Вставай, дружок, с постели на горшок!» И от этих полузабытых звуков у него опять защипало глаза, и он окончательно понял, какой лотерейный билет подарила ему судьба: выигрышный билет в страну детства, тот самый проездной билет, о котором когда-то пела Эдита Пьеха:
Ночью из дома я поспешу,
В кассе вокзала билет попрошу,
Может, впервые за тысячу лет:
«Дайте до детства плацкартный билет».
Тихо кассирша ответит: «Билетов нет...»
А ему, Андрею Кононову, посчастливилось раздобыть такой билет в собственное детство.
...И кончилось лето, и прошла осень, и в весну превратилась зима, да и сама весна со дня на день собиралась обернуться новым летом...