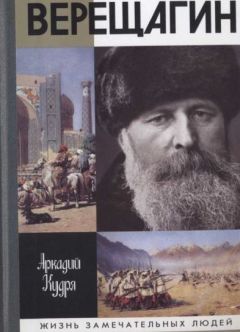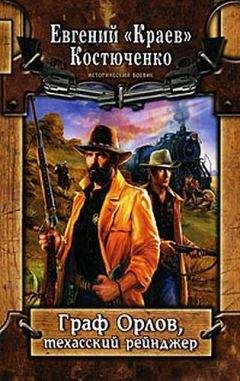Через три недели она позвонила утром: «Привет, хочу тебя обрадовать – все сошло благополучно. (А Верещагин и думать уже забыл о ее волнениях.) Зато, когда ты прославишься, – продолжала Людочка, – я смогу хвастаться». – «Чем?» – спросил несообразительный Верещагин. Людочка засмеялась: «Буду рассказывать знакомым: представьте, когда-то я ждала ребенка от Верещагина. Надо же, от самого Верещагина! Какая честь, какая удача! – Верещагин молчал, не зная, что говорить. – Нет, ты представь, – продолжала Людочка, – я выхожу замуж и сообщаю супругу: ждала ребенка от самого Верещагина. Он тут же начинает меня боготворить и носить на руках…» – «Ладно, хватит», – сказал Верещагин, тон разговора показался ему издевательским. «Хватит?» – переспросила Людочка странным ломким голосом и положила трубку. Как в воду канула. На двадцать лет исчезла.
В то же утро раздался еще один звонок. «Срочно зайдите ко мне, – сказал профессор Красильников. – Сейчас», – и так же, как Людочка, внезапно положил трубку. Верещагин побежал к нему.
Он застал профессора лежащим в розовых трусах на медвежьей шкуре с иголкой в руке. Медведь смотрел на мир только одним глазом, второго не было, и в данный момент Красильников пришивал на его место оранжевую пуговицу. Первый глаз тоже был пуговицей, но коричневого цвета.
Верещагин подошел к окну и стал ждать, когда Красильников заговорит о том, ради чего так срочно звал. За окном как всегда гулял с девочкой дог. За ними по-прежнему шла толпа зевак. Верещагину показалось, что это те же люди, которых он год назад разогнал криком.
«Я знал этого медведя еще ребенком, – сказал Красильников. – Когда он состарился и умер, я пришил ему вместо глаз самые красивые пуговицы, но какой-то негодяй из гостей оторвал одну ботинком. Все ходят и шаркают. Никто не хочет поднимать ноги».
«Вы меня звали для чего? – спросил Верещагин. – Я, например, всегда поднимаю. Что-нибудь случилось?» – «Я не вас имею в виду, – ответил Красильников. – Вы, может, и поднимаете, зато другие волочат так, что противно смотреть». – «Какой смысл об этом говорить, когда пуговица уже почти пришита обратно! – накричал Верещагин, преисполненный нетерпения. – Вы для чего меня звали?» – «Так это же совсем другая пуговица! – закричал Красильников еще громче. – А та – исчезла! Скорее всего, ее засосал пылесос и она выброшена в мусоропровод. Вот о чем я толкую! Совсем другая пуговица!»
Так начался последний разговор Верещагина с профессором Красильниковым. Больше они не виделись. То есть, была у них еще одна встреча – через четверть века, они много и хорошо поговорили тогда, им было о чем, – но читатель ничего об этой встрече не узнает: мое повествование закончится чуть раньше, чем она произойдет.
Таким образом, в книге это последний их разговор. Он был продолжен Верещагиным, высказавшимся в том духе, что новая пуговица, возможно, превзойдет красотой прежнюю, если ее как следует натереть суконкой.
Красильников отверг предложение сделать новую пуговицу красивее прежней. В данном случае, сказал он, важно не превзойти красотой, а сравняться ею, так как все дело в том, чтоб глаза у медведя были одинаковыми. «У всех нормальных существ оба глаза всегда бывают одинаковой красоты», – сказал он.
Верещагин ответил, что так рассуждать может только человек, желающий затормозить развитие мира. Если что-то может превзойти, то и должно превзойти, не заботясь о том, как это воспримут соседние предметы. «Если какую-нибудь вещь можно сделать красивее, то не делать ее красивее – преступление», – сказал он.
Красильников сказал, что так говорить может только человек, которому совершенно не дорога кристалличность мира. «Человек, посвятивший себя кристаллам, не станет гоняться за красотой частности, пренебрегая гармонией целого», – сказал он.
Верещагин не согласился с тем, что пуговица – частность. Поскольку она имеет форму, цвет и консистенцию, то является отдельной обособленной вселенной и совершенствование ее красоты путем более гармоничного, то есть более кристаллического, расположения отдельных ее частностей нельзя рассматривать как грех перед соседними вселенными.
«Не стану я натирать ее суконкой, – сказал Красильников. – Она и так красивая».
Пуговица, о которой спорим, действительно производила хорошее впечатление. Вообще-то она была оранжевой, но иногда отблескивала зеленым, особенно при взгляде искоса, при долгом же рассматривании краем глаза можно было разглядеть вспыхивающие внутри ее багровые пятна, – казалось, пуговица сейчас лопнет и из нее вытечет что-то вроде магмы.
Пуговиц у Красильникова было много. Он увлекся их красотой еще в юности и за многие десятилетия собрал замечательную коллекцию, в которой имелись такие уникальные экземпляры, как, например, золотая пуговица от кальсон великого французского писателя Бальзака или латунная пуговица с мундира рейхсмаршала Кейтеля, оторвавшаяся в тот момент, когда Гитлер тряс его за грудки, узнав о поражении под Сталинградом. Эту пуговицу Красильников недавно выменял на полутораметровую с тридцатью четырьмя вкладышами матрешку у одного молодого западногерманского саксофониста, отец которого был то ли адъютантом при Гитлере, то ли стенографистом рейхсканцелярии, или еще кем-то и лично присутствовал при тряске Кейтеля. Всего у Красильникова было около шести с половиной тысяч замечательных пуговиц, некоторые из которых он пришивал на видных местах своей квартиры, предварительно приклеив к стене комочек бархата или другой толстой ткани.
Впоследствии Верещагин превзошел своего учителя: к сорока шести годам он собрал коллекцию гвоздей, не имеющую себе равных в мире – самый большой гвоздь коллекции весил одиннадцать килограммов, а самый маленький можно было разглядеть только под микроскопом – такие гвозди применяются генетиками-экспериментаторами, когда им нужно прибить к клеточной хромосоме какой-нибудь лишний ген в целях дальнейшего научного развития.
Но все это потом. Целых четверть века понадобилось Верещагину, чтоб собрать такую замечательную коллекцию. В настоящий момент он обладал всего лишь одним гвоздем, найденным в грязи, со шляпкой в виде океанской черепахи, а Красильников – шестью с половиной тысячами пуговиц и одну из них пришивал к медвежьей морде. «Не стану я натирать ее суконкой, – сказал он и, встав с медвежьей шкуры, пошел к зеркалу, где несколько секунд удивленно рассматривал свое отражение. – Оказывается, я в трусах, – сообщил он Верещагину и, вынув из ящика письменного стола желтый спортивный костюм, ловко натянул его на себя. – Совсем другое дело! – сказал он улыбаясь в зеркало и гладя свои бедра, ляжки и живот. – Когда ты умный и талантливый, то очень хочется себя любить. Вам хочется себя любить, Верещагин?» – спросил он.