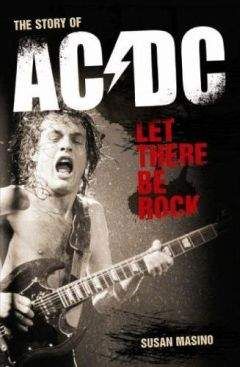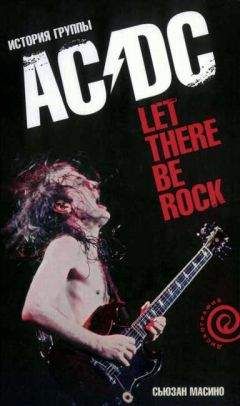Дыра окончательно затянулась блестящей заплаткой, которая вспучилась регулярными выступами, и вот уже возникли широкие ступени, приглашая к продолжению пути. Медленнее всего нарастали перила, достигая нужного места пускавшие вниз сложное переплетение решетки, похожей на увитую листочками изгородь.
— Экспедиция на последнюю планету… погружение в черные дыры… парадоксальная планета… межгалактические перелеты… Сколько дел, сколько тайн, сколько героизма… Следы погибших цивилизаций… Бушующие атмосферы… Кехертфлакш, да одна паршивая бактерия в атмосфере планет-гигантов в системах голубых звезд перевесит все ваши ковчеги и саркофаги… — старческое бормотание становилось все тише и тише.
Виток за витком Сворден Ферц приближался к вершине Белого Клыка, и странная оптическая иллюзия все увереннее одерживала верх над бесконечной поверхностью Флакша. Казалось, что мир сдувается, скукоживается, будто разрисованный воздушный шарик, из которого выпускают воздух, отчего расплывчатые картинки на его резиновой поверхности вдруг начинают обретать резкость линий в ущерб размеру.
Еще немного, и в пределах вытянутой руки окажутся крепости Дансельреха — оправленные пеной штормового прибоя скалы, похожие на зубы, торчащие из челюсти издохшего хищника. Еще несколько шагов, и можно будет дотянуться до Стромданга — гигантского водоворота в изначалье Блошланга, великого потока, связующего мир в единое, безначальное и бесконечное целое. Ему даже казалось, что он ощущает свежесть нескончаемого шторма, а волосы электризуются от близких грозовых разрядов, так что пригладь их ладонью и ощутишь покалывание на коже и услышишь тихий треск статического электричества.
Мир собирался вокруг него в единое и неделимое целое, и тоже самое происходило с ним самим, будто вместе с уменьшением Флакша одновременно рос, превращаясь в великана, и Сворден Ферц, поглощая свои отражения в кругах Дансельреха. Так вспоминаешь нечто давно погребенное в песках памяти, когда забыта даже та причина, по которой пришлось отказаться от этой частички собственного Я, оставив ее ветшать и рассыпаться под ударами стихии времени, как ветшают и рассыпаются города и цивилизации, лишенные живого человеческого участия. И когда изумленному взгляду археолога вдруг является очередное свидетельство иной жизни, с изумлением вопрошаешь: «Неужели это тоже я?!»
Однако находки древности лишены постыдности, поскольку отполированы до блеска океаном минувших времен, выступая прохладными свидетельствами высоких взлетов и глубоких падений.
Иное дело собственная память.
Человек воспитанный не лишается способности творить зло в силу онтологической поврежденности рода человеческого, но творит его в узких пределах герметичных переборок, воздвигаемых внутри души его тайной личности. Только так возможно спрямление чужих исторических путей. Только так возможно открытие жестоких чудес науки, безжалостно взимающей дань человеческими жизнями. Только так возможен мир любви и братства, где скверные проделки ближнего своего признаются за симптомы неизлечимой болезни, корни которой милосерднее скрыть от ближнего, нежели в глаза назвать хамом и подлецом, отвесив пощечину или вызвав на дуэль.
Возьмите гипотетическую ситуацию, где в каком-то отдаленном мирке, целиком и полностью отданном творцам счастья человеческого, служителям храма величия человеческого разума, природа вознамерилась доказать свое неодолимое превосходство и грозится смести все живое с поверхности шарика, подвешенного ни на чем. Встает дилемма: кого спасать с гибнущего мирка? Творцов и служителей вместе с их почти готовыми чертежами и схемами очередного протеза счастья человеческого или же группу детей, волей жестокой случайности оказавшихся на планете?
В перечне готовых рецептов Высокой Теории Прививания отсутствуют подобные ингредиенты, из которых возможно сварить похлебку, отвечающую изысканным вкусам творцам прогресса и диетической пресности штатных морализаторов.
Впрочем, не столь важен вкус поднесенной ко рту ложки, сколько воспоминание о съеденном блюде. Почему бы не удовлетворить и творцов и морализаторов, создав для каждого, благо чудеса современного ментососкоба позволяют подобное, удовлетворяющую его версию события?
Хотите спасти детей? Вот вам, пожалуйста — санаториум «Огоньки», где визжат и плещутся драгоценнейшее обретение человечества, искупленные из смерти жертвенным агнцем прогресса. Езжайте и убедитесь. Только не брюзжите о нерадивых ученых, так и не доведших до ума систему планетарной нуль-транспортировки.
А уж ежели вы готовы протянуть руку спасения творцам и служителям культа величия человеческого разума, имея в виду тысячи и тысячи спасенных по всей планете жизней, оказавшихся в пределах мгновенной досягаемости соответствующих компетентных служб, то смело шагайте внутрь стакана нуль-транспортировки и если вас не настигнет нейтринный шторм, то вы тут же очутитесь у подножия мемориала в честь сложивших головы в великой битве разума и мракобесия.
Счастье человечества на том и зиждется, что для каждого оно готово создать тот вариант бытия, который принесет человеку неописуемое эмоциональное, эстетическое и интеллектуальное наслаждение. И уж никто не постоит ценой за подобную благодать.
Сворден Ферц открыл глаза и посмотрел на укрытого пледом человека. Изрезанное глубокими морщинами лицо в своем спокойствии походило на лик истукана, взирающего на океан.
— Вайсцан, — тихо позвал Сворден Ферц.
Человек никак не отреагировал. Он продолжал неподвижно лежать на кушетке и смотреть на занавешенное старомодной портьерой окно. Острые лучики света проникали сквозь отверстия — следы ветхости, а может и моли, разбавляя сумрак комнаты. Было холодно как в склепе — из вентиляционных щелей вытекал стылый воздух, шевеля прикрепленные по бокам охладителей бумажки.
Из мебели, кроме кушетки, имелся приземистое кресло невыразимой древности, но вполне еще крепкое, под стать ему низенький столик с одиноко стоящим стаканом, покрытым ледяными и почему-то не тающими потеками, да лампа, перекочевавшая сюда из музея покорителям космоса — на заре космоплавания такими любили оснащать стандартные жилые модули. Висящие по стенам детские рисунки в прозрачных обоймах за мебель считать не приходилось.
Сворден Ферц потянулся и дотронулся до лежащей поверх пледа руки. Жилистая ладонь с длинными, точно у пианиста, пальцами с распухшими от артрита суставами — профессиональная метка человека, большую часть жизни проведшего за пределами естественной гравитации. Темная, старческая кожа запястья, на фоне которой даже обтрепанный и засаленный обшлаг пижамы выглядел ухоженно чистым.