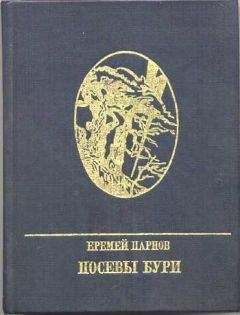К антологиям же позже присоединились еще две: «Русская литературная утопия», составленная В. Шестаковым (издательство МГУ, 1986) и восстанавливающая для любознательного читателя ряд недоступных прежде текстов, и «Русская фантастическая проза» — солидный, в шестьсот страниц, том, открывающий новую 24-томную «Библиотеку фантастики». Том этот издан непредставимым по прежним временам тиражом в 400 тысяч экземпляров…
Да, находятся, конечно, еще и сегодня люди, которым копание в архивах фантастики кажется ненужным: ведь там, в старой фантастике, по их мнению, одни лишь малопримечательные произведения, вспоминать о которых означает заниматься «снобистско-библиофильским любованием мнимыми сокровищами». Я отнюдь не утрирую, не выдумываю эту мрачноватую фигуру убежденного в единоличной своей правоте оппонента. Именно эти выражения («снобистский вкус», «библиофильское любование», «мнимые сокровища»…) содержал один из отзывов на готовившееся первое издание данной книги…
Подобные взгляды любопытно было бы спроецировать на изучение литературы «основного потока». Нашей большой литературы. Разве не получилось бы в результате, что и академическую историю ее следует переписать, ограничившись рассмотрением творчества лишь тех писателей, чьи имена вошли в учебники для пятого — седьмого классов общеобразовательной средней школы?! Такое допущение заведомо фантастично. В отношении же фантастики, как ни удивительно, и в наши дни обостренного к ней интереса оказывается возможен подобный откровенно вульгарный подход… Впрочем, остановимся.
Не относя себя к тем из «фантастоведов», кто, по словам В. Ревича, впадает в другую крайность и склонен «объявлять дореволюционную фантастику яркой и заметной ветвью великой русской литературы», полагаем тем не менее, что «копаться» в прошлом нашей фантастики надо. Надо, чтобы понять, на какой почве вызревала современная советская фантастика, столь громко заявившая о себе в последние десятилетия, столь уверенно вышедшая на мировую арену. Надо, чтобы убедиться: фантастика отнюдь не инородное тело в русской литературе, отнюдь не искусственно привитые неведомо кем традиции западных фантастов. Надо, наконец, чтобы подтвердить: народ, осуществивший грандиозную мечту всех народов и поколений, — этот народ умел и любил мечтать!..
Не будем углубляться в русские народные сказки, хотя в историческом плане они выразительнее всего подтверждают последнее положение. Возможно, именно по этому они давно уже со всей обстоятельностью проанализированы помимо фольклористики и в работах, посвященных фантастике. Даже и без сказок, даже без первых русских романов, в назидание царствовавшим особам рисовавших облик «идеального государя» и по» тому, несомненно, проходящих и по ведомству Утопии, — о многом, очень многом хотелось бы сказать, если уж зашла речь о старой русской фантастике…
О том, например, что минуло уже два века со времени появления (1784-й год) первой в отечественной литературе фантазии о полете на Луну — «Новейшего путешествия, сочиненного в городе Белеве». Любознательный Нарсим, герой этой фантазии Василия Левшина, весьма убедительно для тех времен размышляет о возможности воздухоплавания, об устройстве мироздания, о миллионах солнц, а при них — и несчетном числе населенных земель. При помощи построенного им аппарата с машущими крыльями Нарсим попадает на Луну, где, подобно Доминику Гонсалесу Ф. Годвина, обнаруживает высоконравственных «лунатистов». В единении с природой, без лукавых мудрствовании живут они, ревностно исполняя хранимые старейшинами заветы предков, и среди них главный: «не приобретающий руками своими пищи считается ненужною тягостию для земли…» Само собою следовало бы (и в нарушение хронологии в наипервейшую бы очередь!) вспомнить, что вот-вот — в 1990 году — исполнится двести лет и еще одному «путешествию» старой русской литературы — «Путешествию из Петербурга в Москву» Александра Радищева, выдающегося нашего мыслителя-революционера. Книга эта в отличие от довольно-таки умозрительных левшинских конструкций буквально пропитана реальнейшей российской действительностью конца восемнадцатого века, ее острейшими социальными парадоксами. Есть в этой хрестоматийной ныне книге главы, написанные от лица «идеального» монарха в виде «проектов в будущее», — формально-то именно они и вводят «Путешествие…» в ряд социальных утопий. Но не в этих проектах реформ, предназначенных способствовать освобождению земледельцев и уничтожению придворных чинов, сокровенный смысл революционной утопии Радищева.
«Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвленна стала…» Прочитанные в момент, когда пробуждается в подростке интерес к социальному облику мира, пламенные эти строки навсегда оседают в памяти. Перелистываю сейчас совсем другие страницы главной книги Радищева, а перед глазами неотступно стоят именно они, эти горькие строки, исторгнутые из глубины сердца истинного гражданина будущих времен тем самым отчаянием, на которое он только и уповал. В том ведь и суть «Путешествия…», что, протестуя против засилья «зверей алчных, пиявиц ненасытных», настаивая на переменах и страстно к ним призывая, вовсе не к «верхам» адресуется автор. Радищев понимает: подобных щедрот не дождаться от деспота государя, коему при всем желании — даже явись оно- не стать «идеальным», «хорошим»: противопоказано ему это! Надеяться можно лишь на перемены, идущие снизу, — на рабов, в накопившемся отчаянии и гневе своем должных же однажды разбить «железом, вольности их препятствующим, главы бесчеловечных своих господ»!
«Свободы ожидать должно от самой тяжести порабощения!» — Радищев бесконечно убежден в этом, как и в том, что из среды восставшего народа непременно явятся свои «великие мужи» — не Лжедмитрии, не Лжепетры, не иные претенденты на роль «хорошего царя», но — «других о себе мыслей и права угнетения лишенны». Именно эта провидческая убежденность Радищева в неотвратимости возмездия, в исторической обреченности крепостничества и самодержавия оказывала революционизирующее воздействие на последующие поколения. «Не мечта сие, но взор проницает густую завесу времени, от очей наших будущее скрывающую; я зрю сквозь целое столетие». За эту-то прозорливую убежденность и был Радищев осужден на смертную казнь, замененную ссылкой в Сибирь…
А декабристы? Готовясь к своему восстанию, они изучали и Радищева, и сочинения западных утопистов, — нужно было выбрать и теоретически осмыслить тот исторический путь, какой собирались они предложить России. Естественно, что и в их наследии — у Александра Улыбышева, у Вильгельма Кюхельбекера — найдем мы попытки понять завтрашний день, разглядеть его очертания, с его позиций оценить современность.