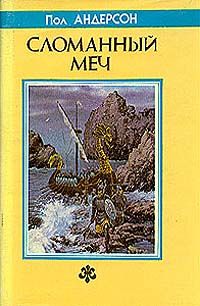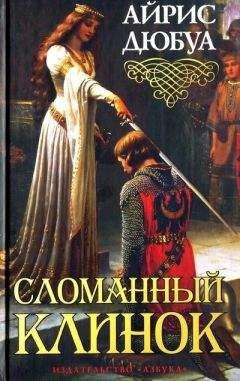Та кивнула.
— Я знаю, тебе не нравится сидеть взаперти, — продолжал Шон. — Извини.
— Ничего. Я просто задумалась, Шон.
Он посмотрел на нее. Проследил взглядом изящные черты тела, задержался на лице.
— Тебе хочется обратно на Рандеву, так ведь?
Неожиданно она расхохоталась. Словно хрустальный колокольчик.
— Бедный, глупый Шон. Ты все беспокоишься.
Шон потянул Илалоа к себе, та подалась ему навстречу, тесно прижалась. Его губы скользнули по душистым волосам, скользнули и слились с ее, отыскав приоткрытые в ожидании губы.
«Что ж, она права. Я и в самом деле слишком много беспокоюсь, а ведь от этого никакого толку».
Он с трудом заставил себя оторваться.
— Как насчет твердого топлива?
Она кивнула и проскользнула к гравитационному лифту.
— Падать вверх так смешно, — крикнула она из шахты. — У вас столько игрушек.
— Игрушек? — отозвался Шон. Но она уже плыла вверх, в камбуз на носу.
На следующее утро он надел традиционный костюм номадов, а сверху теплый плащ. Подождал, пока Илалоа выйдет из душа. На корабле она всегда подолгу плескалась в душе, словно смывая какую-то невидимую нечистоту.
— Надень что-нибудь потеплее, дорогая, — посоветовал он, вдруг ощутив себя почти настоящим супругом.
Та поморщилась.
— Это обязательно?
— Если не хочешь замерзнуть, то да. Почему тебе не нравится одежда?
— Просто… будто прячешься от солнца, от дождя, от ветра. Окружаешь себя мертвой кожей, а это, как будто сидеть в темноте. Вы запираете себя от жизни, Шон.
Все-таки она оделась и прошмыгнула к шлюзу первой.
Утро было холодным и туманным, под ногами влажно блестели каменные плиты. Они вышли из ворот замка, пройдя под огромными башнями и стали спускаться вниз по холму, в город.
Город уже проснулся, и когда они спустились на улицы, шум стал еще громче: гул голосов, топот копыт, скрип колес и звон железа. Запах тоже стал сильнее. Шон принюхался и покосился на Илалоа. Та, кажется, не обращала на вонь внимания; напротив, она оглядывалась по сторонам с таким искренним удивлением, какого он не замечал в ней ни разу.
Улицы города были узкими и кривыми, скользкими от грязи, выписывая совершенно невероятные зигзаги между высокими домами с острыми крышами. Двери были тяжелыми, окованными медью и бронзой, узкие, как щели, окна, нависающие над улицей балконы закрывали небо. Вдоль стен выстроились шаткие деревянные прилавки, увешанные всевозможным товаром — посудой, одеждой, инструментами, оружием, коврами, едой, вином, и охрипшие от усердия торговцы равно расхваливали и примитивную простоту, и убогую роскошь. Иногда им навстречу попадался храм с башенкой-минаретом, гротескно украшенный измазанными кровью идолами.
Туземцы расступались перед Шоном и Илалоа, изо всех сил стараясь не прикоснуться к запретным фигурам людей и все-таки иногда наталкиваясь. Это зрелище казалось романтичным только издали. А вблизи… Шон почти физически ощущал кипящую вокруг ненависть.
Илалоа потянула его за рукав, и он пригнулся, чтобы услышать ее в этом грохоте.
— Ты знаешь этот город, Шон?
— Неважно, — признался он. — Я могу тебе кое-что здесь показать, если… — тут он заколебался, — если ты захочешь.
— Да, хочу!
Впереди взвыла труба, и эруланцы разбежались к стенам. Шон тоже оттянул Илалоа за собой, сообразив, в чем дело. Мимо пронеслось несколько всадников в доспехах и шлемах, разбрызгивая грязь из-под копыт. Старший размахивал во все стороны нагайкой. В центре скакал человек, одетый точно так же, как они.
Не успел смолкнуть топот, как раздался женский вопль. Прежде чем толпа снова заполнила улицу, Шон успел заметить, как туземка склонилась над маленьким мохнатым тельцем. Ее дитя, очевидно, оказалось недостаточно проворным.
Горло перехватило так, что было больно.
— Сюда, Илалоа, — прохрипел он. — Назад, сюда.
— Там была смерть, — негромко сказала Илалоа.
— Да, — ответил он. — Такова жизнь на Эрулане.
Они попали на другую, не менее оживленную улицу.
По ней шла вереница рабов, скованных за шеи. Их босые ноги кровоточили. Двое солдат подгоняли рабов плетьми, но те даже не поднимали глаз.
Шон еще раз посмотрел на Илалоа. Та глядела на проходивших мимо рабов, но, судя по лицу, ее сострадание было далеко не таким глубоким, как у него.
Улица выходила на рыночную площадь. На виселице раскачивалось три тела. Под ней расфранченный эруланин бренчал на маленькой арфе. Звучала веселенькая мелодия.
Пальцы Илалоа сжали его руку.
— Ты печален, Шон.
— Это все проклятая, жестокая планета, — ответил он. — Все это так бессмысленно!
Илалоа пристально посмотрела на него, а когда заговорила вновь, ее голос был серьезным.
— Ты давным-давно отгородился от жизни. Ты забыл вкус дождя и летней ночи. В твоей груди пустота, Шон.
— Какое это имеет значение?
— Вокруг нас жизнь. Ты забыл, какой она может быть мрачной, грубой, жестокой. Вы хороните ваших мертвых в огне и забыли, что плоть должна сливаться с землей. Земля должна наливаться силой ваших тел и расцветать там, где умираете вы. И тогда наступит вечный рассвет, и вы не вспомните ни про ночь, ни про грозу. А ты живешь во тьме, с привидениями и призраками. Это неправильно, Шон.
— Но это!..
— Да, здесь жизнь жестока и груба, но это жизнь. Ты боишься криков и мук рождения? Ты боишься думать о ночных хищниках, которые убивают жизнь, чтобы накормить своих детенышей? Тебе знакома жажда власти и жажда смерти?
— Уж не думаешь ли ты, что это правильно?
— Нет. Но это есть. О Шон, нельзя любить жизнь, пока ты сам не стал всей жизнью, не такой, какой она должна быть, но такой, как она есть, с грубостью и лаской, с радостями и печалями, не только в тебе, а… Нет, ты не понимаешь!
Немного помолчав, она негромко добавила:
— Да, настоящее можно сделать лучше. Нет смысла в бесконечных муках и страдании. И все равно здесь жизни больше… чем в городе Стелламонт.
— Ты хочешь сказать, — переспросил он, — что неверна причина? Что инстинкт…
Илалоа рассмеялась, хотя в смехе мелькнула и нотка сожаления.
— Ты добр, но твоя доброта такая далекая, — и тут же, чуть не навзрыд: — О Шон, если бы у нас могли быть дети…
Он прижал ее к себе и, не обращая внимания на кошачьи взгляды вокруг, поцеловал. Почему-то он чувствовал облегчение. Они пытались понять друг друга, и даже неудача была по-своему победой.
После обеда улицы опустели — наступила сиеста. Шон и Илалоа бродили по лабиринту кривых улочек и тупиков, пока не заблудились окончательно. В этом не было ничего страшного — достаточно было увидеть с какой-нибудь площади громаду замка и идти в том направлении.