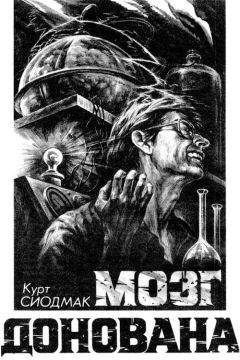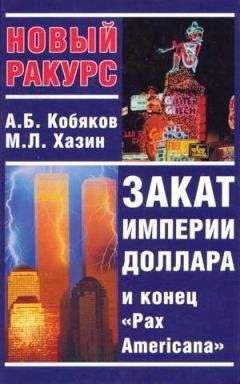— Я ни в каком качестве не желаю прослыть участником ваших экспериментов, Патрик, — ответил он. — Вы, с вашим механистическим мировоззрением, низводите жизнь до уровня простых химико-физиологических процессов. Возможно, этот мозг все еще способен чувствовать боль. Возможно, сейчас он по-настоящему страдает, хотя и лишен всех органов, которые могли бы выразить его ощущения. А вдруг он испытывает муки, сравнимые с предсмертной агонией?
— Как известно, сам по себе мозг нечувствителен к боли. Ее ощущают рецепторы, — возразил я.
И, чтобы доставить ему удовольствие, добавил:
— По крайней мере так считает наука.
— Науку вы используете, как ореховую скорлупу, в которой прячетесь от окружающего мира. — Шратт с досадой махнул рукой. — И цените только то, что вы можете наблюдать и измерять. Вот почему все ваши открытия бессмысленны и безрассудны — вы слепо суетесь в неведомые вам области, но не имеете ни малейшего представления о последствиях ваших действий.
Кантовская гносеология — излюбленный конек Шратта.
— Я всего лишь пытаюсь создать условия, позволяющие живой материи существовать отдельно от целостного организма, — терпеливо объяснил я. — При всем вашем предвзятом отношении к научному прогрессу вы должны согласиться, что мои эксперименты продвинули науку на целый шаг вперед. Вы говорили, что хрупкость нервных волокон лишает нас возможности изучать их живыми, в состоянии естественного функционирования. Но мне удалось доказать обратное!
Я прикоснулся к стеклянному сосуду с мозгом капуцина, и самописец сразу же зафиксировал изменение биополя, окружающего живую материю.
Я пытливо посмотрел на Шратта. Мне все еще хотелось добиться от него признания моего успеха. Однако выражение его лица осталось прежним — хмурым, недовольным.
— Вы черствы и близоруки, Патрик, — наконец вздохнул он. — В вас не осталось человеческих чувств. Их убила ваша страсть к наблюдению и математической реконструкции его результатов. Думаете, вы воссоздаете жизнь? Нет, вы уродуете ее — по моделям, которые вам подсказывает ваш иссушенный, искалеченный рассудок. Я не представляю себе жизни, в которой нет места любви и ненависти, целеустремленности и беспечности, тщеславию и доброте. Прощайте, Патрик. Если в этой колбе вы воспроизведете доброту, я вернусь.
Шратт встал, тяжелой походкой направился к двери. Уже взявшись за ее ручку, он оглянулся и добавил дрожащим голосом:
— Сделайте одолжение, Патрик, отключите насос. Пусть это несчастное создание умрет.
16 сентября
После полуночи линии энцефалограммы выпрямились. Обезьяний мозг умер.
Когда в три часа ночи в гостиной зазвонил телефон, я еще работал в лаборатории. Звонили снова и снова. Дженис ушла спать час назад, оставив на моем столе поднос с ужином.
Очевидно, она приняла снотворное — иначе эти настойчивые звонки разбудили бы ее. Франклин, спавший в коттедже, и вовсе не мог их слышать.
Наконец, отложив работу, я снял трубку и услышал возбужденный голос горного смотрителя Уайта. Оказалось, что неподалеку от его станции разбился самолет.
— Я не могу дозвониться до Конапаха! — Уайт кричал так, будто поставил себе целью известить меня об этом без всякого телефона. — Старик Шратт снова напился!
Он разразился руганью, лишившись остатков самообладания, — от его дома, стоявшего на вершине горы, до ближайшего жилья было восемь миль, а рядом произошла катастрофа, и ему срочно требовалась помощь.
Перед тем как позвонить мне, он разговаривал со Шраттом. Больше обращаться было не к кому. Оператор телефонной станции, уходя домой после вечернего дежурства, оставляет ему только эти две линии — на случай болезни или какого-нибудь другого несчастья.
Я успокоил Уайта и пообещал вызвать подмогу.
Через некоторое время мне удалось дозвониться до Шратта. Он едва ворочал языком и еще меньше понимал, чего от него хотят. Мне пришлось несколько раз повторить свое сообщение.
— Я не смогу добраться туда, — прохрипел он, когда наконец до него дошел смысл моих слов. — Не смогу, и все. Я старый, больной человек. У меня больное сердце. Я не смогу провести в седле столько часов.
Он боялся потерять работу, но алкоголь парализовал его волю.
— Ладно, я вас выручу, — сказал я. — Ждите меня в моем доме — к утру я вернусь. — К утру, в вашем доме, — жалобно пробормотал он. — Спасибо, Патрик, спасибо…
Разбудить Франклина было делом нелегким. Я велел ему позвать на помощь кого-нибудь из соседей. Затем вернулся в лабораторию и сложил в саквояж препараты, которые могли мне понадобиться. Закончив сборы, я увидел Дженис, стоявшую у двери.
На ней был домашний халат. Она дрожащими пальцами пыталась завязать его пояс. Взглянув в ее мутные глаза, я понял, что она приняла снотворное.
Дженис не выносит этот сухой климат, жару, неожиданные песчаные бури и испорченную воду, которую качают сюда по трубам, проложенным в пустыне. Она медленно увядает, теряет былую красоту и свежесть. Я не раз просил ее уехать отсюда. Ей лучше жить на родине, в Новой Англии. Но она не хочет покидать меня.
— Срочный вызов? — спросила она, поеживаясь (после снотворного ее всегда знобит).
Я рассказал ей о самолете и звонке Уайта.
— Разреши мне поехать с тобой, — заплетающимся языком проговорила она… — Я могу пригодиться…
Ее взгляд внезапно прояснился. Я знал, что она хотела быть со мной и намеревалась воспользоваться аварией как предлогом для исполнения своего желания.
— Нет, — сказал я, — ты не подходишь для этой поездки. Иди спать.
Я вспомнил, что уже несколько недель не разговаривал с ней. Все это время она неотступно следовала за мной — стол в нужный момент оказывался накрытым, в доме поддерживалась безукоризненная чистота, и мне не приходилось отвечать на лишние вопросы. Она ждала, что я когда-нибудь позову ее, но я забывал о ее существовании.
Вскоре у крыльца собрались люди. Каждый привел с собой мула или лошадь. Посовещавшись, мы тронулись в путь.
16 сентября
Через три часа мы добрались до станции Уайта. С высоты этой свайной постройки окружающие горы видны как на ладони. Работа смотрителя заключается в наблюдении за навигационными маяками и регулярной проверке их аккумуляторов, чтобы пилоты самолетов могли ориентироваться при полетах на север и запад.
Уайт еще не совсем стар, ему лет пятьдесят, не больше. На своей станции он живет один, если не считать собаки, которую он держит для охоты. Человеческое общество ему не нравится, сейчас я впервые застал его нетерпеливо ожидавшим нашего приезда. Его обветренное лицо было бледным как полотно.