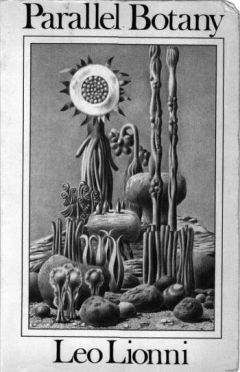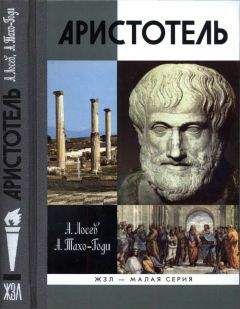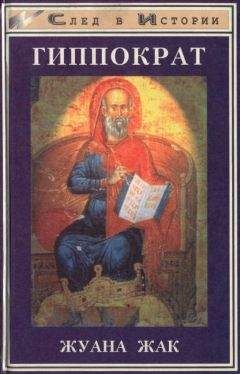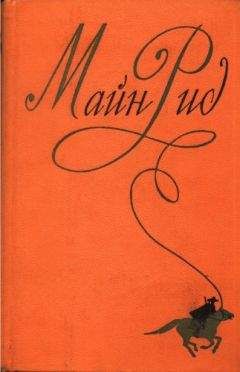Было ясно, что поиск места в пределах линнеевской классификации для растений, которые были возможны, или, в лучшем случае, вероятны, но в любом случае полностью чужды известной нам действительности, представляет собой непреодолимые трудности. Был Франко Руссоли, который обронил выражение «параллельная ботаника», в то же время давая название и определение тому, что могло бы быть наукой само по себе или могло бы просто представлять in toto организмы, которые являются объектом изучения. Но иногда случается, что слова обладают мудростью большей, чем их семантическая насыщенность. С помощью своего подтекста устойчивой «чуждости» слово «параллельный» освободило учёных от кошмара созерцания традиционных классификаций, в сущности разрушенных, а наряду с ними и самого основания современной научной методологии. Поскольку Волотов прав в своём наблюдении, что, если одна из двух наук является параллельной, тогда по определению другая также должна быть [параллельной], мы приходим к мнению, что несколько туманная двусмысленность слова должна быть принята, чтобы обратиться к царству вне установленных границ нашего знания. «Однажды осознав её параллелизм, — говорит Ремо Гавацци, — мы вынуждены сменить точку нашего наблюдения, создавать новые пути для исследования и возможно также новые инструменты для восприятия, если мы должны понять действительность, которая могла бы прежде казаться враждебной нам».[4]
Каждое открытие, даже маленькое, подразумевает переопределение всего, что мы пока с удобством принимали как единственный возможный критерий действительности. Таким образом, открытие этой необычной и вызывающей беспокойство ботаники связано с нарушением иллюзорной последовательности наших предыдущих понятий реальности и нереальности. «Дела во многом обстоят так, — пишет Дулье, — потому что это исходит из тех самых представлений, что эти растения, волшебным образом отчуждённые от процессов роста и разложения, которые борются за главенство в биосфере, тянут свои жизненные соки и таким образом появляются, постоянно защищённые, вне пределов сферы нормального восприятия, связей и ассоциаций памяти, в очертаниях весьма „иных“, неоднозначных, извращённых и находящихся вне нашего кругозора. Мы неспособны воспринять это из-за долго считавшегоя священным представления о действительности, которое прицепляется столь упрямо, подобно вьющемуся и, возможно, ядовитому плющу, к нашей логике».
Жак Дулье, директор Центра Биологических Исследований в Провансе и редактор журнала Pensee, заслужил свою международную репутацию не только из-за своих знаменитых экспериментов в области языка вибраций и эха у организмов, живущих на морском дне, но также и из-за своего детального и оригинального критического анализа Декарта. Возможно, именно тот факт, что он был и биологом, и философом, в первую очередь определил его интенсивный и серьёзный интерес к новой ботанике.
Критикуя идеи, которые, начиная с эпохи Просвещения, удерживались в качестве надёжных основ всей нашей работы в науках, в историческом интервью для Radiodiffusion Francaise Дулье перечислил странные события, которые привели его к интеллектуальному кризису, к его полемической переоценке всех древних смыслов и к формулировке новых методов исследования для изучения явлений, которые «официальная» наука отказалась признавать как действительно существующие.
Его драматическое признание предполагалось как ответ тем лицам во французских интеллектуальных кругах, которые не могли понимать, как биолог его статуса с такой откровенной решимостью мог бы брать на себя риск исследования новых и, по-видимому, эзотерических траекторий, столь полных ловушек и неизбежных подводных камней, когда его репутация как учёного исключительного таланта и благоразумия, казалось, уже гарантировала ему место среди светил науки.
В своём радиоинтервью Дулье рассказал, как вскоре после окончания войны он работал в ботанической биологической лаборатории в Университете Аннапура в Бенгалии. Там он встретил Хамишеда Барибхаи, известного своими исследованиями не только в медицинской ботанике, но также и в литературе на санскрите, и особенно в ведических текстах. Когда они встретились, Барибхаи только что исполнился девяносто один год, но в умственной и физической гибкости он всё ещё мог с лёгкостью сравниться с молодым французским учёным, который в то время был одним из выдающихся талантов в Сорбонне. У них обоих было обыкновение регулярно часто встречаться в «ашраме» на холме, около большого храма, посвященного обезьяньему богу Хануману.[5]
«Однажды в последние дневные часы, в первых лучах долгого заката, когда город был подёрнут красноватым смогом и резким зловонием сожжённого навоза даже до самых холмов, Хамишед Барибхаи сказал мне: «Вы всегда говорите о реальном и нереальном. Если Вы обещаете сохранить это при себе, я покажу Вам новый опыт. Идём со мной». В течение получаса мы шли в направлении реки Амшипат, пока не добрались до края леса из деревьев генсум. Там мы натолкнулись на недавно побелённую грязную хижину. Дверь была заперта на висячий замок. Барибхаи вынул связку ключей из своего кармана и открыл дверь. «Вот ваша действительность» — сказал он с иронической улыбкой. Я был достаточно встревожен тем, что увидел. В полутьме внутри хижины находились два больших белых гиббона. Один растянулся на куче соломы и, кажется, был мёртв. Даже когда мы вошли, он не двинулся. Тем временем другой, не покидая своего места, начал нервно раскачиваться на своих лапах, показывая свои зубы и испуская короткие пронзительные вскрики. «Этот мёртв?» — спросил я, указывая на другую обезьяну, которая всё ещё не показывала ни малейшего признака жизни. «Если этот мёртв, то и другой тоже» — был ответ Барибхаи. Затем он добавил, медленно выговаривая слова: «Вы смотрите только на одну обезьяну». Будучи совершенно привыкшим к шуткам старика, я не отреагировал на это абсурдное утверждение. «Что, как Вы думаете, они делают, эти двое?» — спросил я, пытаясь поддразнить его. Но Барибхаи уже покинул хижину. Я последовал за ним, задаваясь вопросом: чем же, спрашивается, он занимался? Хотя обезьяны были прикованы длинными цепями, я тщательно закрыл за собой дверь.
Рядом с хижиной был длинный узкий огород, не больше, чем дорожка для боулинга[6], полностью окруженный шестифутовой проволочной сеткой, с колючей проволокой на вершине. Это невольно заставило меня подумать о концентрационном лагере для карликов. Внутри сада было три ряда растений, все высотой пятьдесят сантиметров и все совершенно одинаковые. На первый взгляд они были похожи на помидорные кусты, но листья были очень правильными и выглядели довольно вздутыми, похожими на листья некоторых суккулентов. Барибхаи снова вынул свои ключи и открыл ворота. Он вошёл, сорвал три листа с одного из растений с педантичной осторожностью, затем вышел, закрыл ворота, защёлкнул висячий замок, и показывал мне листья. «Вы хотите видеть действительность? Идите со мной и смотрите внимательно». Мы возвратились в хижину. Лежащая обезьяна не двигалась вообще, но другая при виде листьев чрезвычайно заволновалась. Я был немного испуган, сам не знаю, почему, и держался ближе к двери. Барибхаи предложил листья обезьяне, которая молниеносным движением вырвала их из его кулака, а затем села и прислонилась к стене подобно мексиканскому пеону, пережёвывая листья с явным наслаждением. Но, пока она ела, её ужасные жесты становились медленнее, глаза, которые с таким живым интересом следили за каждым нашим движением, начали закрываться, и, покончив с третьим листом, она сползла на землю и легла там на свою постель, как будто ослабела. Но в тот момент, когда она упала, совершенно вялая, другая обезьяна вздрогнула. Она открыла свои глаза, испустила долгий стон, поднялась на ноги и посмотрела вокруг агрессивно и с подозрением. Сначала я не сумел постичь то, что происходило, но тогда я внезапно вспомнил то, что сказал Барибхаи («Вы смотрите только на одну обезьяну»). «Вот ваша действительность, — сказал старый учёный в третий раз, — пошли».