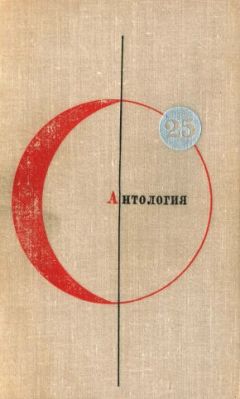Жизнь придворного сборища столь явственно отдает такой бесталанной фальшью, что у наиболее прозорливых людей, прибывших в Паризию позже, а также у всех тех, кто собственными глазами видел становление псевдомонарха и псевдознати, не может в этом отношении оставаться никаких иллюзий. Поэтому, особенно в первое время, королевство напоминает как бы существо, шизофренически разодранное надвое: то, что болтают на дворцовых аудиенциях и балах, особенно вблизи Таудлица, никак не совпадает с тем, что говорят в отсутствие монарха и трех его наушников, сурово (даже пытками) проводящих в жизнь навязанную игру. А игра эта блистает великолепием отнюдь не фальшивым, потому что потоки караванов, оплачиваемых твердой валютой, позволяют за двадцать месяцев возвести дворцовые стены, украсить их фресками и гобеленами, покрыть паркет изумительными коврами, уставить покои зеркалами, золочеными часами, комодами, проделать тайные ходы и заложить тайники в стенах, оборудовать альковы, перголи, террасы, окружить замок огромным, великолепным парком, а затем - частоколом и рвом. Каждый немец здесь - надзиратель над индейцами-рабами (это их трудом и потом создано искусственное королевство), он одет как рыцарь семнадцатого века, однако при этом носит за золоченым поясом армейский пистолет системы "парабеллум" - окончательный аргумент в спорах между феодализованным долларовым капиталом и рабским трудом.
При этом монарх и его приближенные систематически ликвидируют все признаки, демаскирующие фиктивность двора и королевства: прежде всего возникает специальный язык, на котором разрешено формулировать сведения, поступающие извне. Причем эти формулировки должны скрывать - иначе говоря, не называть - несуверенность монарха и трона. Например, Аргентину именуют не иначе, как "Испанией", и рассматривают как смежное государство. Понемногу все настолько вживаются в свои роли, привыкают так свободно чувствовать себя в роскошных одеяниях, так ловко пользоваться мечом и языком, что фальшь как бы уходит вглубь, в основы и корни этого здания, этой живой картины. Она по-прежнему остается бредом, но теперь уже бредом, насыщенным кровью подлинных желаний, ненависти, споров, соперничества, ибо на фальшивом дворе разворачиваются подлинные интриги и сплетни; яд, донос, кинжал начинают свою скрытую, совершенно реальную деятельность. Однако монархического и феодального элемента во всем этом по-прежнему содержится ровно столько, сколько Таудлиц, этот новоявленный Людовик XVI, сумел втиснуть в свой сон об абсолютной власти, реализуемый ордой бывших эсэсовцев.
Таудлиц предполагает, что где-то в Германии живет племянник, последний отпрыск его рода - Бертран Гюльзенхирн, которому в момент поражения Германии было тринадцать лет. На поиски юноши (теперь ему двадцать один) Людовик XVI отправляет герцога де Рогана, то бишь Иоганна Виланда, единственного "интеллектуала" в свите: ведь Виланд в свое время был эсэсовским врачом и в концлагере Маутхаузен проводил "научные работы". Сцена, в которой король дает врачу секретное поручение отыскать юношу и доставить его ко двору в качестве инфанта, относится к одной из лучших в романе. Почти сумасшедший привкус ее состоит в том, что король сам себе не признается в обмане: правда, он не знает французского, но, пользуясь немецким, утверждает (как и все следом за ним), когда это надо, что говорит именно по-французски, на языке Франции семнадцатого века.
Это не самогипноз: теперь сумасшествием было бы признаться в том, что ты немец, пусть даже только по языку; Германии вообще не существует; единственным соседом Франции является Испания (то есть Аргентина)! Тот, кто отважится произнести что-либо по-немецки, дав при этом понять, что говорит именно на этом языке, рискует жизнью: из беседы архиепископа Паризии и Дюка де Солиньяка можно понять (т.1, с.311), что граф Шартрез, обезглавленный по обвинению в государственной измене, в сущности, по пьянке назвал дворец не просто борделем, но борделем немецким.
Обилие французских фамилий в романе, живо напоминающих названия коньяков и вин - взять, к примеру, маркиза Шатонеф дю Папа, церемониймейстера! - несомненно, является следствием того, что, хотя автор нигде об этом не говорит, в памяти Таудлица засело по вполне понятным причинам больше названий ликеров и водок, нежели фамилий французских дворян.
Обращаясь к своему посланцу, Таудлиц разговаривает с ним так, как, по его представлениям, обращался бы к доверенному лицу Людовик, отправляя его с подобной миссией. Он не приказывает скинуть фиктивные одежды герцога, но "рекомендует" переодеться англичанином либо голландцем, что означает просто - постараться принять нормальный современный вид. Слово "современный", однако, не может быть произнесено - оно принадлежит к разряду тех, которые раскрывали бы фиктивность королевства. Даже доллары здесь всегда называют талерами.
Прихватив солидное количество наличных, Виланд едет в Рио, где действует торговый агент "двора"; достав добротные фальшивые документы, посланец Таудлица плывет в Европу. О перипетиях поисков племянника роман умалчивает. Мы узнаем только, что одиннадцатимесячные труды увенчиваются успехом, и роман в оригинале начинается именно со второй беседы между Виландом и молодым Гюльзенхирном, который работает кельнером в ресторане крупного гамбургского отеля. Бертран (это имя будет ему разрешено носить: по мнению Таудлица, оно звучит "на уровне"), вначале слышит только о дяде-крезе, который готов усыновить его, и этого достаточно, чтобы он бросил работу и поехал с Виландом. Путешествие этой оригинальной пары, как интродукция романа, отлично выполняет свою задачу, поскольку речь идет о таком перемещении в пространстве, которое одновременно является как бы и отступлением во времени: путешественники пересаживаются с трансконтинентального реактивного самолета в поезд, потом в автомобиль, из автомобиля в конный экипаж и, наконец, последние 230 километров преодолевают верхом.
По мере того как ветшает одежда Бертрана, "исчезает" его запасное белье, он облачается в архаичные одежды, предусмотрительно припасенные и при случае подсовываемые ему Виландом, причем сам Виланд одновременно преображается в герцога де Рогана. По мере того как Виланд, явившийся в Европу под именем герра Ганса Карла Мюллера, трансформируется в вооруженного псевдорыцаря герцога де Рогана, аналогичное превращение, по крайней мере внешнее, происходит и с Бертраном.
Бертран ошеломлен и ошарашен. Он ехал к дяде, о котором знает, что это хозяин огромных владений; он бросил профессию кельнера, чтобы унаследовать миллионы, а вместо этого ему приходится разыгрывать не то комедию, не то фарс, суть и цель которых он не в состоянии уразуметь. От поучений Виланда-Мюллера-де Рогана сумбур, царящий у него в голове, только возрастает. Ему кажется, что спутник просто смеется, приоткрывая перед ним небольшой фрагмент непонятной аферы, полный объем которой Бертран пока ни охватить, ни понять не может; придет час, когда юноша будет близок к сумасшествию. При этом поучения ничего не говорят "в лоб", не называют вещи по имени; эта инстинктивная мудрость является общим свойством двора.