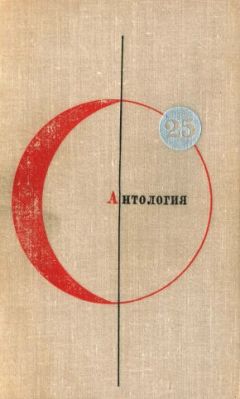"Надо, - говорит де Роган, - придерживаться формы, соблюдения которой требует дядя ("ваш дядюшка", потом "его превосходительство", наконец, "его величество"!), имя его Людовик, а не Зигфрид - последнее _запрещено_ произносить. Он отверг его - быть посему", - заявляет Мюллер, преображаясь в герцога. "Имение" превращается в "латифундию", а "латинфундия" в "государство" - так понемногу, в течение долгих дней верховой езды сквозь джунгли, а потом, в последние часы, проведенные в золоченом паланкине, который несут восемь нагих мускулистых метисов, видя из-за занавески колонну конных рыцарей в шишаках, Бертран убеждается в правильности слов загадочного спутника. Потом Бертран начинает подозревать в сумасшествии самого Мюллера и уповает уже только на встречу с дядей, которого, кстати, почти не помнит - последний раз он видел его девятилетним мальчонкой. Но встреча оборачивается изумительным, эффектным торжеством, представляющим собой конгломерат церемоний, обрядов и ритуалов, еще в детстве пленивших Таудлица. Поет хор, играют серебряные фанфары, появляется король в короне, предваряемый лакеями, которые протяжно возглашают: "Король! Король!" - и распахивают перед ним резные двустворчатые двери. Таудлица окружают двенадцать "пэров королевства" (которых он по ошибке позаимствовал не там, где следовало), и, наконец, наступает возвышенная минута - Луи XVI крестом осеняет племянника, нарекает его инфантом и дает ему облобызать кольцо, руку и скипетр. Когда же они усаживаются завтракать, обслуживаемые выряженными в ливреи индейцами, Бертран, изумленно глядя на эту роскошь, на далекую полосу дивно зеленых джунглей, окружающих владения "короля", просто не решается спросить дядю о чем-либо и, выслушивая его мягкие поучения, начинает именовать дядю "его превосходительством".
"Так надо... того требуют высшие соображения... в этом заинтересованы и я и ты..." - милостиво обращается к нему группенфюрер СС в короне.
Разумеется, бывшие жандармы, концлагерные надзиратели и врачи, водители и башенные стрелки бронетанковой дивизии СС "Великая Германия", выступающие в качестве придворных, герцогов и духовенства двора Людовика XVI, - это такая кошмарная, такая сумасшедшая мешанина, в такой степени не соответствующая неписаным ролям, в какой это только вообще возможно.
Впрочем, если гитлеровским живодерам и тошно было напяливать на себя кардинальский пурпур, епископские одеяния и золоченые доспехи, то уж с меньшим неудовольствием - ибо это было забавно - они переименовывали проституток, взятых из матросских борделей, в своих графских супруг, когда речь шла о светских вельможах, либо в виконтесс и герцогинек-наложниц, когда дело касалось духовенства короля Людовика. В конечном итоге выбранные роли пришлись по вкусу; купаясь в фальшивом величии, эти твари любовались, кичились собой и одновременно стремились приблизиться к собственному идеалу блистательной особы. Те страницы романа, где говорится об этих бывших палачах в кардинальских митрах и кружевных жабо, представляют собою изумительную по силе демонстрацию психологического мастерства автора. Эта голь ухитряется выжать из своего положения утехи, чуждые истинному аристократизму, и наслаждения, вдвойне усиленные оттенком узаконенной преступности. Известно, что преступник пожинает плоды зла с наивысшим удовольствием только тогда, когда творит зло с сознанием своей правоты; именно поэтому, творя мерзости, все они уже по собственной воле стремятся к тому, чтобы хотя бы на словах не выйти из епископской или герцогской роли. Самые тупые из них, например Мерер, завидуют герцогу де Рогану, который ловко ухитряется объявить измывательство над индейскими детьми "действом", со всех точек зрения "придворным", в высшей степени приличествующим дворянину (кстати, в полном соответствии с основной идеей индейцев здесь именуют неграми, потому что раб-негр "лучше соответствует стилю").
Нам понятно, почему Виланд (герцог де Роган) домогается кардинальской митры; только кардинальского сана этому выродку и недостает, чтобы иметь возможность заниматься своими вырожденческими "шалостями" - в качестве одного из наместников самого господа бога на земле. Правда, Таудлиц отказывает ему в посвящении, словно понимает, какая бездна мерзости стоит за мечтой Виланда. Таудлиц хотел бы забыть о своем давнем эсэсовском прошлом - ведь у него был "иной сон, иной миф", он жаждет истинного королевского пурпура. Таудлиц ничуть не лучше Виланда, просто его занимает другое, ибо он стремится к - невозможной, но абсолютной - трансфигурации. Отсюда "пуританизм короля", который так не нравится его ближайшему окружению.
Что касается придворных, то вначале мы видим, как из различных побуждений они старались играть свою роль, а потом, как они вдесятером принялись плести сети заговора против монарха-группенфюрера, стремясь лишить его сундука, набитого долларами, а может быть, и убить. Убийство мотивировано: иначе им пришлось бы расстаться с сенаторскими креслами, титулами, орденами, положением. А это уж никак не входило в их планы. Безвыходный лабиринт. Ловушка. Порой они уже и сами верят в реальность своего немыслимого положения, поскольку немыслимость эта в высшей степени пришлась им по душе. Мешала же им попросту беспощадная жестокость Таудлица как монарха: не лезь из него ежеминутно группенфюрер СС, не давай он им молча! - чувствовать, что все они зависят от него, от акта воли его и минутной милости, то, вероятно, дольше продержалась бы Франция Андегавенов на территории Аргентины. Итак, актеры уже ставили в вину режиссеру недостаточную аутентичность спектакля; эта банда хотела быть более монархичной, чем допускал сам монарх.
Естественно, все ошибались, потому что не могли сравнить себя в этих ролях с истинной пышностью подлинного блистательного двора. Разумеется, этих тварей немного утомляют спектакли, которые они вынуждены разыгрывать, а уж труднее всех достается тем, кто призван изображать высшее духовенство римско-католической церкви.
Католиков в колонии нет вообще, а о какой-либо религиозности бывших эсэсовцев нечего и говорить; поэтому повелось, что так называемые молебны в дворцовой часовне чрезвычайно коротки и сводятся к пению нескольких псалмов из библии; кое-кто предлагал монарху вообще ликвидировать службу божью, но Таудлиц оказался неумолим; впрочем, оба кардинала, архиепископ Паризии и остальные епископы именно тем и "оправдывают" свои высокие титулы, что несколько минут в неделю посвящают богослужению - чудовищной пародии на мессу. Это дает им основание, прежде всего в собственных глазах, занимать высокие духовные посты; они кое-как ухитряются проторчать за алтарями считанные минуты, чтобы потом часами компенсировать это в попойках и под балдахинами пышных супружеских лож. Сюда же относится и идея с кинопроекционным аппаратом, привезенным (без ведома короля!) из Монтевидео, с помощью которого в дворцовом подземелье показывают порнографические фильмы, причем функции кинооператора выполняет архиепископ Паризии (он же бывший шофер гестапо Ганс Шефферт), а в подручных у него ходит кардинал де Сутерне (экс-интендант); идея эта одновременно дьявольски комична и достоверна, как все остальные элементы трагифарса, который и существовать-то может только потому, что ничто не в состоянии разрушить его изнутри.