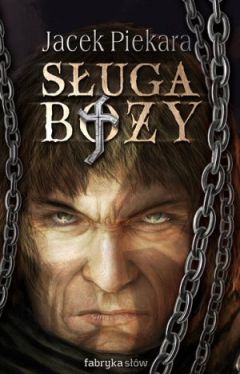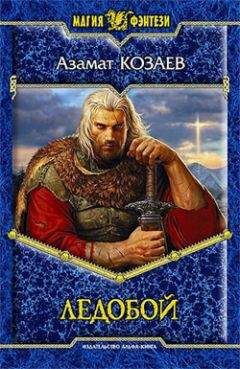- Не могу, не могу... - прошептал этой ночью Одиссей, вскочил с постели и унесся на берег моря, где, войдя по колено в его черные с белоснежной пеной воды, потрясая в небо кулаками, разразился самой низкой и грязной бранью. Потом упал на колени и склонил голову, а холодное море обняло за плечи, остужая кричащую душу, и что-то соленое потекло по лицу. Наверное, морская соленая вода.... Но воин встал и вышел на берег. Пусть сжимается душа и вспоминает всех убитых и хотевших убить его. Пусть вспоминает и так и не вспомнит подруг, гревших жесткое походное ложе, сменявших одна другую все эти годы. Пусть вспоминает и то, как к концу последнего года войны, он уже не мог припомнить, за что они воюют, и не проходило тупое осторожное оцепенение, когда не замечаешь и не ищешь вокруг себя ничего кроме блеска обнаженных мечей и доспехов, и не слушаешь ничего кроме свиста летящих оттуда или туда стрел, когда уже не кривишься от обилия мертвых вокруг и не просыпаешься даже от ночных кошмарных видений, когда хранишь каменное выражение лица, или уже не ты хранишь, а лицо просто само по себе окаменело...
...Одиссей вошел в хижину мокрый, дрожащий от холода, усталый. Эвмей не посмел выбежать в ночь за господином и лишь молча ждал, дрожа от волнения, а дождавшись, сразу уложил своего царя на грубо тесанные доски, укрытые соломой и набросил на Одиссея все, что было: старый хитон, старый пеплос, старое одеяло. И сидел, гладя Лаэртида по мокрой голове. Ложиться спать самому уже бесполезно, скоро рассветет...
...Одиссей закутался поплотнее в рубище и обгладывал брошенную ему кость. Он несколько раз видел Пенелопу, выходившую во двор дать распоряжения слугам. Коз и баранов и без ее приказов зарежут наглые самозванцы, но не оставить за собой последнего слова она не могла. Если бы Одиссей мог улыбаться и смеяться в голос, он сделал бы это сейчас.
- Женщина, настоящая женщина. - шептал Лаэртид, сверкая из-под рубища синим глазом. -Ты смелая женщина, Икариада.
Пенелопу окружили слегка подвыпившие гости. Царица возвращалась в дом через этот глухой уголок двора и, нимало не смущаясь нищим, притихшим в своем углу, женщину этого беспутного гуляки Одиссея окружили двое, Антиной и Эпименид. Она остановилась, гордо подняв голову, и даже Одиссею из его угла был виден страх в глазах жены, но царица гордо поднимала голову и не прятала грудь, ссутуливаясь, как служанки.
- Ты настоящая женщина, Икариада. - шептал Одиссей в куче еще теплой золы.
Антиной стоял и качался, вино проливалось из перекошенной чаши наземь, жених скалил зубы и плотоядно облизывался, и даже он, пьяными своими глазами видел страх в глазах царицы, и наверное упивался усилиями женской воли, поднимающими подбородок вверх и расправляющими плечи и грудь. Антиной навалился на Пенелопу а ей, подпертой сзади Эпименидом и податься было некуда, и оставалось только гордо стоять, держать в руках амфору с вином, презрительно улыбаться, и не кричать, ни в коем случае не кричать. Обезумевшие от страсти к доступным Одиссеевым женщинам и более того к его несметным стадам, женихи воспримут ее крик, как падение последнего бастиона сопротивления. Потом они опомнятся. Но это потом...
Антиной шарил на ее груди, распаляясь все больше, скрипя зубами от похотливого возбуждения, сзади ее лапал, задрав хитон, ничего не соображающий от выпитого Эпименид, Пенелопа всеми силами сохраняла каменное выражение лица, но сквозь маску то и дело прорывалось что-то, что Одиссей, и сам скрипевший зубами и ломающий в ладони мозговую кость, единым своим открытым глазом, сквозь разгорающийся в груди пожар все пожирающей злобы, жадно ловил.
Ненависть ли это, улыбка презрения или наслаждение, ненависть, презрение или наслаждение долгие годы безмужней женщины? Пенелопу втолкнули в нишу, где мотками лежала ждущая своего часа, пряжа, раздался треск разрываемого хитона и протяжный женский стон.
Наслаждения или бессильной ненависти, наслаждения или ненависти?
Одиссей взревел и сломал в ладони обглоданную кость. Бессилие и остатние крохи разума удержали взбешенного героя Трои на месте, ненависть и все сжигающая, даже саму себя, злоба, вырвались из полыхающей гневом груди в этот крик.
Лаэртид даже голос не изменил голос, голос сам дрожал и хрипел, искореженный до неузнаваемости.
- Что, что такое? Кого убивают? - выбежал из ниши Антиной с хитоном в руке. -Эй нищий, ты кричал?
Одиссей покачал головой. О-о-о боги, каких трудов стоило ему сказать нет когда хочется крикнуть Да, это я кричал! и голыми руками вынуть у ехидны сердце, и бросить собакам, и держать эту никчемную жизнь в кулаке, и не отпускать, и чтобы видел все подлец, все до самого последнего мгновения и умер не от раны в груди а от ужаса! Стонала в нише женщина, пыхтел мужчина... О-о-о боги, вам пожертвует Одиссей самую крепкую скамью во всем доме, самые крепкие кости, обглоданные собаками, самую мерзкую матерщину воспоет вам, боги, пред которой его брань сегодняшней ночью, когда он оскорбил море матом, покажется гимном величию надоблачных олимпийцев!..
Одиссей заорал так, что со двора разбежалась птица, со всех сторон в глухой закуток вбежали полупьяные претенденты, а из ниши выскочил как угорелый, поправляющий на себе одежды Эпименид.
- Что ж ты, собака бешеная, отнекиваешься? Да ты, нищий, обезумел от обилия мозга в костях, что мы тебе бросаем! - женихи пинали Одиссея ногами, а он, лишь крепче завернувшийся в тряпье, держал рубище руками у лица, чтобы не слетело. -Что ж ты, пес шелудивый, врешь, почему кричишь? Что ж ты, тварь, людей пугаешь?
Бесшумно отворилась дверь ниши, оттуда бочком выскочила Пенелопа, и на лице ее блуждала... счастливая улыбка?.. растерянная гримаса?..
Не богов призывает Одиссей, они получат причитающееся нынче ночью, когда он попросит у моря прощения и умолит Борея все до единого слова, все до единого хрипа донести до Олимпа и бросить "жертвоприношение" Зевсу в уши. Он молит свои глаза не ослепнуть под огнем ненависти и злобы, он просит руки и ноги не отказать от бессильного гнева, он просит сердце биться, и биться, и биться. Синий глаз не отрывался от Икариады, прикрытой лишь надверной циновкой, Одиссей орал и не давал, пинающим его самозванцами, обернуться на скользящий за их спинами женский силуэт, первый итакиец впился единственным открытым глазом в ее лицо и искал все, что прятала маска равнодушия, но что-то все-таки прорывалось сквозь нее... улыбкой?..
- А-а-а-а!..
- Кричи, вой, шелудивая собака! Так-то ты платишь за гостеприимство?..
Об Одиссееву спину кто-то из женихов разбил скамью. Дубовина разлетелась в щепы, а нищий только покачнулся. Изумленные самозванцы смешались, разинули рты, но быстро опомнились. И Лаэртид кричал и почти не чувствовал побоев...