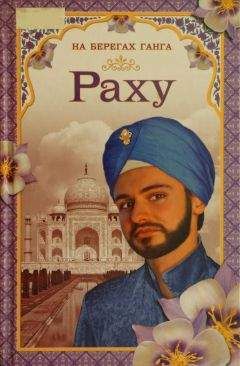Хон яростно зарычал и отшвырнул недоеденное. О Мгла, до чего же стыдные и несправедливые мысли приходят в голову! Ему бы Нурда век благодарить за спасение, так нет же, злобствует. Не на Витязя, на себя злобствовать надо, на глупость свою! Бешеному подранку под удар подставился, забыл, что ежели проклятый дышать способен, значит, способен и убивать... Допустил сердце захлебнуться яростью — это он-то, как никто умевший сверх меры озлить противника; заставить его совершить глупое и тем воспользоваться! Где же было сегодня твое хваленое воинское умение, Хон? Сам еле спасся, Торка едва не погубил...
Хон вздохнул, исподтишка оглядел сидящих вокруг: страшно было, что станут теперь смотреть на него с презрением или (не приведи, Бездонная!) вздумают жалеть. Но опасения столяра были напрасны. Никто не собирался ни жалеть его, ни презирать.
С голодом к этому времени все уже подуправились (и круглорогом тоже — осталась от него малая чуточка). Тут бы и заснуть, сытым-то, но сон не шел. Слишком велико было возбуждение от пережитого... Пережитого ли? Ничто ведь еще не кончилось. А ну как не поспеют носящие серое, что тогда. Вот и сидели, маялись, до хруста в ушах прислушиваясь к невнятным ночным шорохам, — ждали. А известно: когда голова ничем не занята, то лезут в нее всякие-разные мысль, причем не всегда такие, которые бы следовало в эту самую голову допускать.
Потому, наверное, и были так хмуры лица, едва различимые в кровавых отсветах догорающих углей. У каждого имелись причины для печали.
Обитатели Сырой Луговины... Ну, эти понятно о чем вздыхали, утирая влажные глаза. Сгинуло привычное размеренное житье, перебиты родичи и соседи, дымом пошло достояние, а что впереди — то одна лишь Бездонная ведает. Заплачешь тут...
Ларда? И у нее были причины для угрюмой тоски. Отец ранен... Пусть и не сильно (губы у него разбиты да передние зубы выломаны), но — родитель же! И посмотреть даже не дает толком, что там у него во рту, и полечить не дает. Ларда смогла бы, она умеет — Гуфа снизошла научить кое-чему. Хоть принудил себя, охая и кривясь, пожевать немного, и то ладно. А она... Как, как могла она забыть о том, что бой, что отцова жизнь под угрозой, и вешаться на шею этому... Лефу. Он небось уж и возомнил о себе, невесть чем посчитав простую благодарность за спасенную жизнь. Ведь это же только из благодарности пыталась его обнять, ведь он противный, белый весь, худосочный... Червяк... И — на тебе, оттолкнул...
Ларде почему-то припомнилось, как лет этак восемь назад ее старшая сестра Пата согласно порядку выбора прилюдно обняла какого-то парня, а тот оторвал от себя Патины руки и крикнул: «Лучше век вовсе без бабы прожить, чем с тобой!» Ларда (она была в ту пору еще совсем недомерком) удивлялась отчаянию сестры. Ну отказался от нее дурак-простофиля, так ему теперь обычаем назначено никогда жены не иметь, а Пате зато еще целый год до нового выбора в родительской хижине обретаться можно. Спрашивается, кому хуже? Но парень-отказник почему-то жил себе и жил, а Пата, проплакав до глубокой осени, однажды увязала в накидку тяжелый камень и бросилась в Рыжую.
Вот странно... Мнится это, или и вправду тот парень, из-за которого сестра убила себя, был похож на Лефа?
Э, да что там — похож, непохож... Уж Ларда-то себя убивать не станет. И плакать, не станет. Больно он ей нужен, объедок... Ишь, ведь и глянуть не хочет, отворачивает рыбью свою образину. Презирает небось, брезгует. И правильно. Не только оттолкнуть — еще бы и в глаза ей плюнуть, дурехе. Зачем, ну зачем же спрыгнула она с Пальца? Сверху добивать надо было бешеного, гирьками надо было его добивать. И чернобородый десятидворец Зат остался бы жить.
Леф не рассказал о том, как все получилось, но Ларда в его снисхождении не нуждается, а после того, что было, — тем более. Сама рассказала, не побоялась. И никто не упрекнул. Ни отец, ни Витязь, ни Хон — никто. Ни единого слова осуждающего не выговорили. Только стало ли ей от этого легче? Нет.
Леф тоже грустил. Трудно было ему привыкать к новому своему качеству; измученное тело ломила выматывающая скучная боль; очень хотелось спать, но заснуть почему-то не получалось, и это было очень обидно. А Хон, Торк и остальные не захотели подсадить его на Палец, где осталась виола, сказали: «Завтра». Но если ночью будет роса, то до будущего солнца виола испортится, а новую взять негде, отец занят всегда, не станет делать. Да и ну ее к бешеному, новую, Леф к этой уже привык, и она к нему привыкла, перестала бояться, как вначале. А Ларду он очень обидел, и это плохо. Главное, не понять никак, на что же такое она обиделась. И на все его попытки как-то исправить, показать, что не хотел он, что не будет больше, она обижается еще сильнее... Можно бы отойти за Развалины и поплакать, но не хочется, потому что там темно и никого нету — одни только мертвые лежат. Страшно там.
А вот Нурд не грустил, а злился. Он катал по скулам тяжелые желваки, жестко щурился на изо всех сил старающегося не стонать Торка. Наконец не выдержал, встал, шагнул к раненому:
— Ну, охотник, хватит. Ляг на спину да закрой глаза — лечить буду.
Торк отчаянно замотал головой, прижимая к изуродованному рту перепачканные кровью ладони, но Витязь спокойно отвел его руки, увещевая неразумного:
— Эх ты, воин... Не боялся, когда ранили, убить хотели, а собрались лечить, так перепугался. Мука тебя не страшит, а избавление пугает. Разве умно это? Да, больно тебе, тяжко. Так это же не рана, глупость твоя тебя донимает.
То, что говорил Нурд, а главное, то, как он говорил все это, напоминало Лефу бормотание старой ведуньи. И вообще, Витязь почему-то очень был на Гуфу похож. Вот ведь странно! Казалось бы, какая тут может быть схожесть? Здоровый, не пожилой еще мужик, ладный, могучий, быстрый, — и ссохшаяся сутулая старушонка. А вот поди ж ты... Может, в глазах все дело? Нет, они тоже, конечно, разные у них. Гуфины — тусклые, полуприкрытые всегда, а у Витязя — как небо в солнечный день. Но от взгляда и тех, и других тепло, спокойно становится; в них хочется смотреть, как на Ларду, — не отрываясь; не то что в смеющиеся глазенки Фасо, которые так добры, так добры, что в доброту эту вовсе не хочется верить.
Между тем Торк соизволил наконец внять уговорам Нурда: перестал хвататься за лицо, прилег и зажмурился. Он бы еще долго отнекивался да упрямился, полагая, будто мужественному воину и охотнику не только лечиться — даже замечать такую ерунду, как раны, дело стыдное и недостойное. Однако Витязь знал, как его допечь. Опасение быть заподозренным прочими (а главное — собственной дочкой) в том, что он, взрослый мужик, боится лечения, мигом сделало Торка покладистым и покорным.