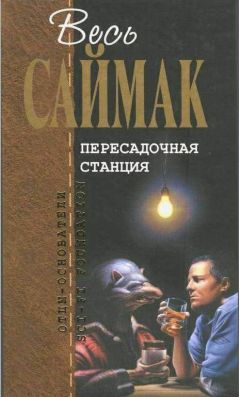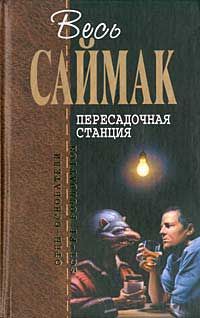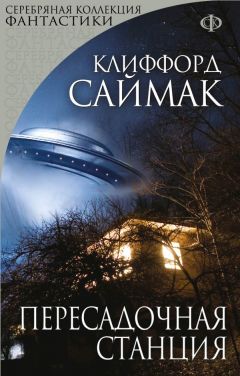Мы долго вспоминали об этом происшествии, и в конце концов порешили, что кража — дело рук какого-нибудь бродяги, что, по совести говоря, было не слишком похоже на правду — ведь наша ферма стоит в стороне от торной дороги.
Примерно через две недели после кражи в нашем доме появился Вильям Джонс и спросил, не нужен ли нам помощник в уборке урожая. Мы были рады нанять его на работу, потому что рук у нас, и правда, не хватало, а плату он попросил вдвое ниже обычной. Мы взяли его только на время уборки, но он оказался таким умелым и проворным работником, что так и остался у нас. В то время, как я пишу это письмо, он находится у амбара и чинит молотилку.
Вильям Джонс — человек большого благородства и достоинства, наверное, поэтому к нему и не приклеилась никакая кличка, что в наших краях происходит быстро. Его все уважают, а уж в нашем семействе он занял место… ну, в общем, я хочу сказать, что мы скорее относимся к нему, как к родственнику, чем как к наемному работнику.
Он трезвенник, ни разу не выпил ни глотка, и я этому очень рад, хотя однажды чуть было не взял грех на душу. Дело в том, что когда он появился, голова у него была перевязана, и он, очень смущаясь, объяснил мне, что подрался с кем-то в кабачке на том берегу, в округе Кроуфорд.
Я даже точно не могу сказать, когда впервые всерьез стал задумываться о Вильяме Джонсе. Но не с самого начала, конечно. Сначала я принимал его за того, за кого он себя и выдавал — то есть за человека, который искал работу. Теперь я так не думаю. Потому что, как ни пытается он играть свою роль, разговаривать так, как мы говорим, иногда в его речи проскальзывает нечто такое, что выдает его образованность и понимание таких вещей, о которых не свойственно думать человеку, работающему на ферме за семьдесят пять долларов в месяц.
И потом — одежда. Не могу точно сказать насчет штанов, потому что все штаны более или менее похожи, но рубашка, которая была на нем в тот день, когда он пришел, была точь-в-точь такая, как пропала с веревки. Хотя — что тут такого? Почему бы кому-то и не иметь такую же рубашку? Но он пришел босиком, вот это было особенно странно. Он тогда просто сказал, что ему в последнее время жутко не везет, ну, я и понял, что у него просто не было денег купить себе ботинки, и я сразу же предложил ему денег на ботинки и носки, но он отказался, сказав, что носки у него есть, даже две пары, в кармане.
Сколько раз я все порывался спросить у него о тех пропавших вещах, но что-то меня останавливало, и, в конце концов, я понял, что никогда не смогу спросить его об этом. Потому, что мне нравится Вильям Джонс, и я знаю, что он ко мне тоже хорошо относится, и ни за что на свете я не соглашусь испортить наши добрые отношения, а то он, не дай Бог, возьмет да и уйдет с фермы.
Еще вот что. На первую свою зарплату Вильям Джонс купил пишущую машинку, и первые два-три года по вечерам целые часы напролет что-то печатал на ней. А в один прекрасный день, спозаранку, когда все еще спали, он вынес во двор большую кипу бумаг и сжег.
Я наблюдал за ним из окна спальни и видел, что он не ушел, пока не сгорел дотла последний листок.
Я никогда не спрашивал у него, почему он сжег бумаги, потому что чувствовал, что этого он никому не скажет.
Я мог бы писать еще долго и рассказывать обо всяких догадках, которые бродят у меня в голове, но они ничего не добавят к главному, о чем я хотел поведать, и потом — не хочу утомлять ненужными подробностями того, кто будет читать это письмо.
Кому бы оно ни попало в руки, я хочу сказать последнее: может быть теория моя и неверна, но я хочу, чтобы тот, кто будет читать, поверил, что все события, о которых я рассказал, действительно были. Я действительно видел странную машину и странного человека на своем пастбище; действительно я поднял там странный гаечный ключ, на котором была кровь; действительно одежда пропала с бельевой веревки, и действительно человек по имени Вильям Джонс сейчас пьет воду у колодца, потому что сегодня очень жарко.
Искренне ваш, Джон Г. Саттон».
Саттон сложил письмо. Старая бумага захрустела, как древний пергамент.
Потом он кое-что вспомнил, снова развернул листки и нашел то, что хотел, — справку. Она была написана от руки, бумага сильно пожелтела, чернила совсем выцвели. Дату разобрать было невозможно, кроме последней цифры — «7».
Джон Г. Саттон сегодня был мною обследован, и я свидетельствую, что он здоров. После подписи, представлявшей собой такую замысловатую закорючку, что вряд ли по ней можно было разобрать фамилию врача даже в тот самый день, когда он подписал справку, можно было различить две четкие буквы ДМ — доктор медицины.
Саттон рассеянно глядел в потолок и пытался представить себе все, что произошло в тот день много лет назад.
«Доктор, я собираюсь составить завещание. Не могли бы вы…»
Иначе и быть не могло, потому что не мог же Джон Генри Саттон сообщить доктору истинную причину своего визита.
Саттон представил себе его довольно отчетливо. Грузный, медлительный, неторопливый, долго и тщательно обдумывавший события, веривший во всякие выдумки, которые устарели уже и в его время.
Наверняка, тиранил домашних. А соседи посмеивались над ним у него за спиной. У старика начисто отсутствовало чувство юмора, но зато он придавал исключительное значение тонкостям этикета.
Он учился на юриста, и точно, у него была железная логика, скрупулезность в описании деталей вкупе с консервативностью да еще старческая болтливость.
Одно не оставляло сомнений — его искренность. Он поверил в то, что встретил странного человека и непонятную машину и разговаривал с тем человеком, и подобрал гаечный ключ, испачканный…
Гаечный ключ!
Саттон рывком сел на кровати.
Гаечный ключ был в чемодане. И он, Эшер Саттон, держал его в руках! Да-да, он повертел его и положил на пол, рядом с другим хламом, вынутым из чемодана, — обглоданной костью и студенческими блокнотами.
Саттон дрожащей рукой убрал письмо в конверт. Итак: сначала его внимание привлекла марка, которая стоила бог знает сколько тысяч долларов, потом — само письмо, а теперь еще этот гаечный ключ. На ключе все сходилось.
Если был ключ, значит, было и все остальное: и странный человек, и странная машина… Человек, который прекрасно разбирался в людях и ловко обвел вокруг пальца сентиментального и болтливого старикана, не дав тому задать ни единого вопроса.
«Кто вы такой? Откуда будете? Что это у вас за машина такая странная — я такую ни разу не видал?»
Что бы человек ответил, если бы старик сумел задать эти вопросы?