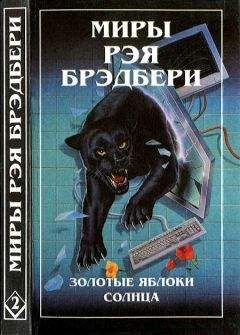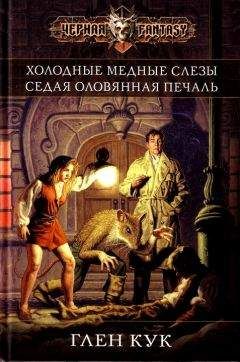– Я хочу сказать… хочу сказать… – Винсент застонал и в отчаянии замахал руками. – Я хочу сказать только то, что подобный псевдофилософский словесный мусор испортил вашу в основе своей очень хорошую, глубокую работу!
Мой собеседник замолчал, и я какое-то время наслаждался тишиной – напомню, я ощущал усталость еще до того, как ко мне заявился Винсент.
– Хотите виски? – предложил я наконец.
– А какой у вас?
– Шотландский.
– Вообще-то я уже немного выпил…
– Не волнуйтесь, я не скажу сторожу, – пошутил я.
Винсент улыбнулся и, немного помедлив, сказал:
– Спасибо, не откажусь.
– Что ж, расскажите мне, мистер Ранкис, что привело вас в наше учебное заведение, – попросил я, налив виски во второй стакан и протягивая его собеседнику.
– Мне нужны ответы на некоторые вопросы, – не раздумывая, твердо ответил он. – Умные, аргументированные ответы. Я хочу знать, что такое этот мир, что и как в нем происходит. Хочу проникнуть в его тайны, которые хранят в себе протоны и нейтроны, планеты и галактики. И даже еще глубже. Если время относительно, то мерилом вселенной является скорость света, верно? Но можно ли сказать, что относительность является единственным неочевидным качеством времени? Или есть и другие?
– А я думал, что современных молодых людей интересуют только секс и музыка.
Винсент улыбнулся – второй раз за все время нашего разговора.
– Я слышал, вы хотите занять должность заведующего кафедрой.
– Мне ее не отдадут.
– Само собой, – самым любезным тоном подтвердил Винсент. – Вы слишком молоды. Это было бы несправедливо.
– Спасибо за откровенность.
– Интересно у вас получается. Сначала вы говорите, что должность завкафедрой вам наверняка не достанется, а потом обижаетесь на то, что я с вами соглашаюсь.
– Вы правы, в этом нет никакой логики. Вы действительно кажетесь слишком… прямолинейным… для студента последнего курса.
Винсент пожал плечами:
– Мне жаль времени на всякие околичности. Я должен многое успеть. Между тем есть многие вещи, которые общество не позволяет делать тем, кому нет тридцати.
Слова собеседника задели во мне, двадцатипятилетнем, болезненную струну.
– Значит, вы интересуетесь временем? – уточнил я.
– Верно, – ответил Винсент. – Его основные качества – сложность и простота. Время кажется простой субстанцией. Мы можем делить ее на части, измерять, расходовать – скажем, на приготовление обеда или беседу за стаканом виски. С ее помощью мы можем формулировать идеи об устройстве видимой части вселенной. Но если мы попробуем простым, примитивным языком рассказать ребенку, что такое время, у нас ничего не получится. По большому счету единственное, что мы умеем делать со временем, – это его тратить.
Сказав это, Винсент залпом опустошил свой стакан. Я же вдруг почувствовал, что вкус виски стал мне неприятен.
Сложность и неповторимость деталей каждого события, – вот оправдание вашего бездействия.
Мне следовало выкрикнуть эти слова Фирсону в лицо. Я должен был гвоздями приколотить его к стене и заставить выслушать мой рассказ о том, какие несчастья пришлось пережить многим поколениям, в какую кровавую мясорубку нередко превращалась история человечества из-за попыток вмешаться в ее ход. Однако я не знал, какими были на самом деле его планы изменения прошлого, и не представлял, насколько далеко он может зайти, пытаясь добиться от меня ответов на интересовавшие его вопросы.
Когда в моей четвертой жизни Фирсон и его люди в конце концов стали пытать меня по той причине, что мне были известны некоторые события будущего, поначалу они действовали не слишком решительно. Нет, они, разумеется, были готовы для получения нужного результата использовать самые жестокие методы. Однако в первое время, видимо, боялись переборщить. Все-таки я был уникальным индивидуумом, и вряд ли в их руки мог когда-нибудь попасть кто-то еще, кто обладал бы такими же необычными качествами. Мой потенциал все еще был недостаточно ими изучен и, по сути, им неизвестен, а потому они опасались причинить мне серьезный физический, а тем более морально-психологический ущерб. Понимая это, я старался кричать как можно громче, кашлять как можно сильнее и корчиться от боли как можно убедительнее. Это их напугало, и они на время отступились. Но потом ко мне подошел Фирсон и сказал: «Мы делаем это ради всего человечества, Гарри. Ради будущего». И за меня принялись снова, уже всерьез.
К концу второго дня истязаний меня приволокли в душ и включили ледяную воду. Сидя на полу, я думал о том, можно ли сильным ударом разбить стекло душевой кабины, чтобы осколком перерезать себе вены на руках.
На третий день в действиях моих мучителей стала появляться сноровка. Уверенность Фирсона в своей правоте оказалась заразительной, и теперь его помощники делали все очень старательно. При этом Фирсон никогда не присутствовал при пытках – за несколько минут до их начала он всегда куда-то уходил и появлялся через несколько минут после того, как истязания заканчивались. Под вечер третьего дня, когда я, истерзанный, лежал в кровати, глядя на оранжевые закатные блики на потолке, он вошел в комнату, сел рядом со мной, взял за руку и сказал:
– Господи, Гарри, мне так жаль. Мне так жаль, что вы так себя ведете. Если бы вы знали, как мне хочется все это прекратить.
Я ненавидел Фирсона, но удержаться не смог. Соскользнув с кровати, я упал перед ним на колени, прижал его руку к своему лицу и разрыдался.
Я написал два письма. Вот текст одного из них:
Дорогая Дженни!
Я люблю тебя. Наверное, мне следовало бы сказать тебе гораздо больше, чем эти простые слова. Но сейчас, когда я пишу эти строки, я понимаю, что эти три слова – главные. В мире нет более правдивых и более точных слов, чем эти. Я тебя люблю. Мне очень жаль, что я тебя напугал. Я жалею о многом из того, что было сказано и сделано. Не знаю, будут ли мои дела в этой жизни иметь какие-либо последствия в будущем, но если тебе придется и дальше жить без меня, не вини себя ни в чем. Будь свободна и счастлива. Я люблю тебя. Это все.
ГарриЗапечатывая письмо, я написал на конверте адрес одного моего приятеля на случай, если почту Дженни просматривают.
Второе письмо было адресовано доктору С. Балладу, неврологу, с которым у меня изредка случались научные споры, в том числе за бутылкой виски. Ни он, ни я никогда не произносили этого вслух, но мы оба считали, что нас объединяет то, что принято называть мужской дружбой. Вот что говорилось в письме:
Дорогой Саймон!