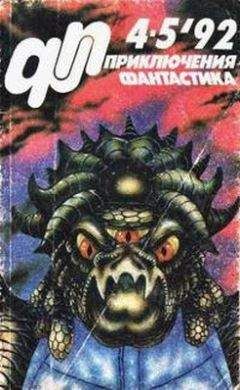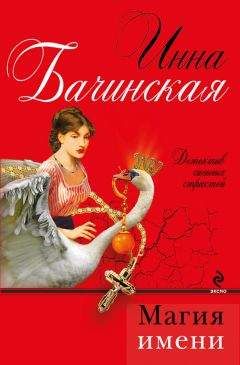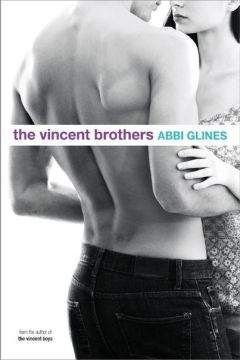Распятые не исчезали. Они все так же висели. Смотрели в глаза. И теперь Иван не сомневался — они видят его, точно видят! Но это лишь усиливало боль! Зачем им видеть его?! Неужто с них не хватает собственной лютой муки?! Нет! Не надо! Никогда! Он хотел заслониться рукой. Но руки были недвижны, он сам был распятым на плахе. Хотел зажмуриться, закрыть глаза, и сделал это. Но он продолжал все видеть внутренним зрением — не менее четко, не менее ярко. От этого некуда было деваться!
К видениям стали прибавляться голоса. Они выплывали из общего неразборчивого гула, который Ивану казался обычным шумом крови, прилившей к голове. Но это было не так. Голоса нарастали, звучали явственней. Кто-то невидимый бубнил басом Гуга Хлодрика: «Ты не поможешь им, дура-ак! Ты только усугубишь все! Наплюй! Забудь!» Сипатый Хук Образина вторил пьяно: «Тупица, себя же погубишь! Куда ты лезешь все время?! Надо жить в своей норе, в своей дыре! То же мне, нашелся мститель праведный! Дурачина!» Слабенький приглушенный голосок сельского священника уговаривал: «Не надо, откажись, только всепрощением можно искупить что-то, во мщении и растравлении ран своих не отыскать и тени справедливости, она в Боге, в умении терпеливо и покорно принимать ниспосланное, за все благодарить: и за радости и за горести. Бойся себя! Бойся своей гордыни!» И тут же нервно, почти зло звучал высокий женский: — «Да будет проклят! да будет проклят! да будет…» Серж Синицки заплетающимся языком гундосил; Тю ист крэзи, Ванья! Сэ не трэ бьен, вали, Ванья, нах хауз. Иль ист морт, иль не будет прощай тьэбья!» И совсем невпопад звучал хрипловатый голос Ланы, взволнованный, даже испуганный: «А я бы висела вечно, пусть! Хоть висеть, хоть лежать, хоть вверх ногами — только бы вечно! Это же блаженство. Зачем ты меня лишил его?! Почему?! Ты думаешь, ты можешь решать за всех? Ты ошибаешься! Решай за себя! Вечность — это так прекрасно, это — быть всегда, неважно как, но всегда…» А параллельно, временами заглушая русоволосую, кричала надрывно погибшая а Осевом: «Забери меня отсюда! Забери! Прижми к себе крепко-накрепко! Я не могу с ними, с этими фантомами-упырями! Я не хочу вечности! Я не желаю носиться всегда в этом царстве теней! Умоляю, спаси! Ну что же, что ты медлишь, они уже вырывают меня, они отнимают меня у тебя, ну-у!!!»! И скрипело в уши: «Мразь! Слизняк! Амеба! Жалкое насекомое, комар, лягушонок! Твое место — лужа, грязь, мокрятина! Что ты о себе помыслить смог, тля! Куда ты заполз, червь?! Гнусный болезнетворный вирус, пытающийся проникнуть в здоровое тело! Зараза мерзкая!!!» И какой-то полузнакомый; а то и вовсе незнакомый приторно-властный, напоенный сиропом, угодливый и одновременно хамоватый, наглый, по-холопьему властный, шепоток все время просачивался в мозг: «Такой порядок! Все равно никто вам не поможет, ни здесь, ни там. Ну где вы найдете безумцев? Нет, нет, ничего, с вами разберутся, поместят куда надо, посадят, куда положено, вы не волнуйтесь, в ваших же интересах! Такой порядок!» А неунывающий Дил Бронкс поддерживал, но как-то странно поддерживал: «Держись! Помни, что обещал! Мне хоть что, один черт! Лишь бы оттуда, понял! Гляди, не подыхай там раньше времени! Или ты уже… того? Может, я с трупом говорю, а? Эй, Ванюша, друг любезный, Иван, чертово семя, паскудник, ты жив еще? Нет?! Не слышу?! Может, ты и не улетал никуда? Эй?!» Глаза мучеников все смотрели на Ивана — и боль из этих глаз переливалась в него. А его собственная боль лилась в них! И не было ни конца, ни края!
И вдруг всплыло, бывшее в Храме, всплыло само по себе, не разрушая видения, не отвлекая от него, будто бы существуя одновременно, но в ином измерении. Иван был во мраке Пространства, и внутри Храма, и снаружи — пред его мысленным взором неизбывным очищающим огнем горели золотые купола. И вот они исчезли, вот все затянуло пеленой, а потом сквозь пелену сверкнула блесточкой кроха-золотинка. Но так сверкнула, что мрак вселенский разбежался по углам пространственного окоема. И заглушая все, прозвучало мягко, по-доброму, будто не с земли прозвучало, а с небес: «Иди! И да будь благословен!»
Голоса, видения, страхи, боль, тоска — все сразу пропало. И он почувствовал, что не лежит на холодной плахе, что его успело приподнять вместе с нею, и он висит теперь на зажимах, удерживающих руки, ноги, шею, висит в совершенно другом помещении, ни чем не похожем на предыдущее с застывшим в воздухе темным яйцом и раструбами непонятных приборов-излучателей. Здесь было пусто и светло. Здесь были голые стены и пол. Правда, с потолка свисали шланги толщиной в руку и другими концами тянулись к Ивановой плахе. Но куда именно они входили, Иван не видел. Ему еще было не по себе: перед глазами мельтешили меленькие черные точечки и зелененькие вертлявые червячки. Голова болела.
И все-таки он понял — что-то произошло. Скосив глаз на собственное плечо, потом на грудь, он увидал обрывки и ошметки грубой толстенной кожи с наслоившимися на нее чешуйками. Из-под этих грязно-зеленых струпьев проглядывала обычная светлая, чуть тронутая загаром кожа. Иван сомкнул зубы, провел языком по ним — да, у него были нормальные зубы в два ряда, а вовсе не пластины-жвалы. И видел он не так, как прежде, обзор был поменьше — видно, один глаз, верхний, пропал. Но вместе с тем Иван ощущал, что он еще не стал человеком в полном смысле этого слова, что процесс преобразования, а точнее, возвращения его в человеческое тело продолжается. Вот сползла откуда-то сверху, наверное, с надбровной дуги, пластина, закрыла на минуту глаз, но потеряв опору, соскочила… Иван сжал руки в кулаки, пошевелил пальцами — да, это были его пальцы, лишь обломились два или три когтя, выпали из пылающих ладоней. Молнией прошибла мысль — тело было здоровым, целым! А ведь его основательно исколошматили в тот раз, перед превращением в негуманоида, у него не оставалось ни единого зуба, а сейчас — пожалуйста, все на месте! И боли в переломанных ребрах, в грудине он не ощущал, все было цело. Иван обрадовался и воспрял душою на какое-то время. Помянул добрым словом старину Гуга — как он его выручил с этим яйцом-превращателем! Верно Гуг говорил — не все свойства этой штуковины еще известны, не все! Вот и раскрылось еще одно — способность восстановления прежнего тела при обратном переходе. Это была фантастика! Но это было так, от реальности никуда не денешься. И лишь теперь в Иванову голову пришла догадка. Никакие то были не секретные лаборатории на суднах в Средиземном море, точно! Как он сразу не сообразил, он ведь слышал от своих кое-что! На суденышках, служивших обыкновенным камуфляжем, в обстановке глубочайшей тайны, закрытые ото всех донельзя, работали две сверхсекретные группы временного прорыва. С будущим шутки были плохи. На каждый бросок туда уходила такая уймища энергии, что хватила бы на планетную колонию в другом конце Галактики. Перебросить пока что никого не удавалось. Зато Иван точно знал, что прорывщики умудрялись время от времени кое-что переносить оттуда к себе. Нет-нет, да и приворовывали они плохо лежащее. Видать, и яйцо-превращатель стянули! Где оно могло быть создано, кем, когда? На первые два вопроса и ответа искать не стоило. А вот когда? Уж точно, не раньше тридцатого века, а то и сорокового. Ведь в ближайшие века даже не предвиделось создание приборов, наделенных столь чудесными свойствами. Ничего, еще разберемся, решил Иван, успеется!