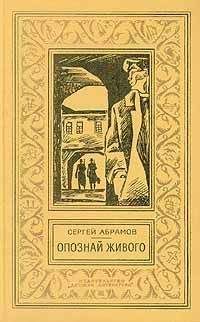У Джанетты вдруг загорелись глаза.
– Я не знаю, о какой свободе говорит фрейлейн эс-эс, но мне уже знакомы многие формы свободы в гестапо. Я предпочитаю остаться в лагере.
– Сеанс окончен, – сказал Стон. – Остаются ещё двое.
– Давай.
И столь же чудесно в комнате оказались Нидзевецкий и Гвоздь в том же виде, в каком я запомнила их на хрустальной россыпи. Нидзевецкий с перекошенным от страдания лицом пытался подняться на четвереньках с пола, а Гвоздь равнодушно ухмылялся, даже не пытаясь ему помочь.
Берни шагнул было к нему, но его остановил Стон.
– Минутку, Янг. Где камни, Нидзевецкий? – спросил он.
– У меня его камни, – сказал Гвоздь.
– Я опять полз на брюхе от немецких танков, – пробормотал Нидзевецкий, – не могу пережить это вторично!
– Благодарите своих соотечественников в Лондоне, – улыбнулся Стон, обнаруживая знание политической ситуации на Западе во время второй мировой войны.
– Червоны маки на Монтекассино… – не слушая его, не то пропел, не то прохрипел Нидзевецкий и упал ничком.
– По-моему, он уже мёртв, – сказал, склонившись над ним, Берни.
Он опять стоял на алмазной россыпи. Стон и Спинелли пропали вместе со столом, нас окружал по-прежнему сверкающий кокон.
Нидзевецкий, как и две минуты назад, поднялся и простонал. Неужели ожил? Но я ошиблась. Сцена повторилась, как в переключённом магнитофоне.
– Червоны маки на Монтекассино… – снова хрипло пропел Нидзевецкий, точь-в-точь как и раньше оборвав строчку.
– По-моему, он уже мёртв, – повторил, склоняясь над ним, Берни.
– Почему вы всё повторяете? – истерически закричала я. – Мы только что всё это видели.
– Это? – удивился Берни. – Я вижу и слышу всё это впервые.
– Но ведь две, всего две минуты назад…
Он не дал мне закончить.
– Две минуты назад мы с вами, Этта, видели нечто другое.
Новое в кристаллографии
Берни Янг
Я действительно видел другое.
Сначала бриллиантовый кокон погас, потом побелел и сузился до узкого белого коридора леймонтского института новых физических проблем. В конце коридора темнела дверь лаборатории профессора Вернера, и к этой двери неспешно шагал я. Неспешно, но сознательно. Без всякого удивления от изменившейся обстановки, без малейшего ощущения неожиданности, а как бы движимый заранее обдуманной мыслью и предвиденным ходом событий. Не открывая двери, я прошёл сквозь неё прямо к сутулой спине Вернера, разговаривающего с портретом молодого Резерфорда.
– Не мешайте, – сказал Вернер.
– Не могу, – сказал я.
– На работе я не общаюсь с живыми, – сказал Вернер, по-прежнему не оборачиваясь.
– Знаю, – сказал я, действительно зная, что дверь лаборатории Вернера всегда на замке. – Но это сильнее меня.
– Нельзя, – отрубил Вернер.
– Бывают случаи, когда в словаре нет слова «нельзя».
Вернер в белом халате наконец обернулся, очень похожий на парикмахера. Узкое лицо его ещё более сузилось, почти достигнув двухмерности. Чёрная повязка на вытекшем левом глазу превратилась в рассекающую профиль диагональ. Эта повязка и треугольное тавро на щеке остались у него от лагерных дней в Штудгофе, куда загнал его Гейдрих.
– Покажите словарь, – сказал он.
Вместо ответа я положил на стол блистающий камешек величиною с орех.
– Что это? – спросил Вернер.
– Бриллиант, огранённый самой природой.
– Мне он не нужен.
– Вы ошибаетесь. Он нужен мне и вам (мы перебрасывались репликами, как шариком настольного тенниса), он нужен человечеству.
Кажется, я выиграл подачу: в глазах Вернера мелькнул тусклый огонёк интереса.
– Нужно исследовать строение и физические свойства его кристаллической решётки, – пояснил я.
– Я уже давно оставил кристаллофизику, – сказал Вернер.
– Поскольку мне помнится, – отпарировал я, – тема вашей диссертации рассматривала кристаллизацию вещества в условиях сверхвысоких давлений.
– Не точная формулировка. Даже не болтовня первокурсника. Дремучее невежество.
– Если вы должным образом исследуете его кристаллическую решётку, – я ткнул пальцем в камешек на столе, – вы, может быть, увидите чудо. Если вы поймёте его, то сделаете открытие, возможно даже более дерзкое, чем открытия Ньютона и Эйнштейна.
Вернер посмотрел на молодого Резерфорда. Казалось, портрет ободряюще подмигнул.
– Конкретно: направление исследования. Что предлагаете? – спросил Вернер.
– Что может предлагать дремучий невежда? Скажем, открыть новую науку, родную сестру кристаллофизики.
– Точнее?
– Биокристаллофизику.
Вернер ещё более сузился. Сейчас он мог бы жить в двух измерениях.
– Вы думаете, это… живое? – недоверчиво спросил он, посмотрев камень на свет.
– Думаю. Может, оно было живым. И даже более – разумным.
– А вы не сошли с ума?
Я только пожал плечами.
– А где же мы найдём средства для исследований? Здесь, к сожалению, это невозможно: воспротивится учёный совет института.
– Мы найдём противоядие. У меня есть ещё камешки.
Я наскрёб в кармане и рассыпал по столу горсть алмазных орешков поменьше, не повысив вернеровского любопытства ни на полградуса. Он только скользнул своим единственным глазом по рассыпанным хрусталикам и подождал разъяснений.
– Мы реализуем часть их на ювелирном рынке и создадим свою лабораторию для исследований.
– Не выйдет, – хохотнул откуда-то взявшийся Стон.
И меня опять это не удивило, как, впрочем, и Вернера.
– Почему? – спросил он, не повышая голоса.
– Потому что бриллианты добыты в моей шахте, на моей земле.
– Это не ваша шахта, это другой мир, господин Стон, – сказал я, – и это совсем не бриллианты.
– Это вы мне говорите, мне, единственному монополисту торговли драгоценностями в Леймонте. Леймонтского ювелирного рынка уже нет, это мой рынок, Янг. Теперь вы не получите ни камней, ни обещанных пяти тысяч.
– Вы украли у меня не пять тысяч, а пять миллионов, – сказал я.
– Может быть, и больше, – хихикнул Стон.
– Мне не надо ваших миллионов, Стон, – проговорила выступившая из гнездящейся у стен темноты Этта Фин, – у меня тоже есть камни.
– Советую их сдать моим «парнишкам», фрейлейн.
– Твоих «парнишек» уже нет, – сказал ещё один голос. – Они у «ведьмина столба» остались. Троих пришил.
Загадки возникали одна за другой. На этот раз – Гвоздь и Нидзевецкий. У Гвоздя – автомат, крепко прижатый к бедру.