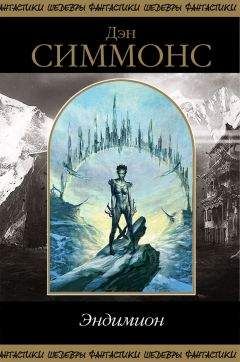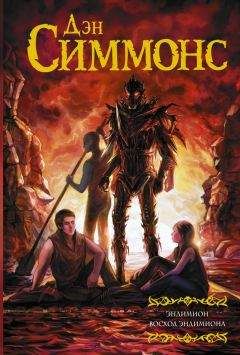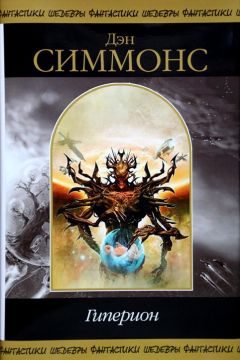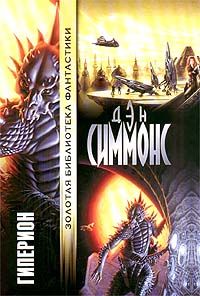Молодой священник Ленар Хойт отправился на Гиперион в поисках друга и бывшего наставника. В поэме утверждалось, что он принял оба крестоформа – свой собственный и Дюре, а незадолго до Падения вернулся на Гиперион, чтобы умолить Шрайка избавить его от этого бремени. Церковь оспаривала подобный ход событий: отец Хойт проявил незаурядное мужество, возвратившись на планету, чтобы покончить с демоном. Так или иначе, во время второго паломничества на Гиперион Хойт скончался. Дюре воскрес с крестоформом Хойта; он вынырнул из хаоса, воцарившегося после Падения, с тем чтобы стать первым антипапой в современной истории. При нем Церковь пришла в упадок, но произошел несчастный случай, после которого из общего крестоформа, который Дюре именовал паразитом, а Хойт – откровением свыше, воскрес не Дюре, а Ленар Хойт, будущий Папа Юлий Шестой. Как это случилось, до сих пор оставалось одной из главных тайн Церкви; со временем христианство превратилось из презираемого культа в единственную религию человечества.
На глазах де Сойи Папа Юлий – худощавый мужчина с бледным лицом – поднял над алтарем святые дары, и капитана внезапно бросило в дрожь.
Отец Баджо объяснил, что всепоглощающее ощущение новизны и непреходящее изумление, последствия воскрешения, исчезнут в ближайшие недели, а вот чувство благодарности будет укрепляться с каждым возрождением. Теперь де Сойя понимал, почему Церковь считала самоубийство одним из наиболее тяжких грехов – совершивший такой грех подлежал немедленному отлучению: ведь после того как погрузился в пепел смерти, Благодать сияет гораздо ярче. Не будь наказание за самоубийство столь суровым, процедура воскрешения вполне могла бы стать популярным развлечением.
Тем временем месса приближалась к завершению. Вновь зазвучали фанфары, вступил хор. Осознав, что вскоре вкусит тело Господне и причастится Его крови, пресуществленных самим первосвященником, капитан Федерико де Сойя, на которого обрушился очередной приступ головокружения, зарыдал как ребенок.
После мессы капитан де Сойя вместе со спутниками отправился в сад. Небо над куполом собора приобрело золотистый оттенок.
– Федерико, – проговорил отец Баджо, – вам предстоит очень важная встреча. Достаточно ли прояснилось ваше сознание?
– Вполне, – ответил де Сойя.
Монсеньор Лукас Одди, за спиной которого маячила капитан Ву, положил руку на плечо офицеру.
– Федерико, сын мой, вы уверены? Мы можем подождать до завтра.
Де Сойя покачал головой. У него в голове роились воспоминания о прослушанной мессе, во рту еще ощущался привкус святых даров, он слышал голос Христа, однако все это не мешало ему думать.
– Я готов, – произнес он.
– Отлично. – Монсеньор Одди кивнул Баджо. – Можете идти, святой отец. Вы нам больше не нужны.
Баджо поклонился и двинулся прочь. Де Сойя, на которого словно снизошло озарение, понял, что никогда больше не увидит священника; сердце затопила волна любви, на глаза вновь навернулись слезы. Хорошо, что темно и никто этого не видит. Интересно, с кем он встретится и где? В легендарных апартаментах Борджа? Или в Сикстинской капелле? А может, в комнате для гостей, в башне, которая называлась когда-то башней Борджа?
Монсеньор Лукас Одди остановился и указал на каменную скамью, на которой сидел какой-то человек; присмотревшись, де Сойя узнал кардинала Лурдзамийского и понял, что встреча, к которой его готовили, состоялась. Офицер опустился на колени перед кардиналом и прильнул губами к перстню на протянутой руке.
– Встаньте, – произнес кардинал, дородный мужчина с резкими чертами лица; его низкий голос показался де Сойе гласом Господним. – Присаживайтесь.
Капитан уселся на скамью, остальные продолжали стоять. По левую руку от кардинала, спрятавшись в тень, сидел еще один человек в офицерской форме, на которой не было видно знаков различия. Чуть поодаль находились и другие люди.
– Отец де Сойя, – начал Симон Августино, кардинал Лурдзамийский, – позвольте представить вам адмирала Уильяма Ли Марусина. – Он кивнул на человека слева от себя.
Капитан мгновенно вскочил, встал по стойке «смирно» и отдал честь.
– Виноват, сэр, – выдавил он. – Я должен был вас узнать.
– Вольно, – разрешил Марусин. – Садитесь, капитан.
Де Сойя подчинился; теперь он вел себя осторожнее, смутно начиная сознавать, в чьей компании оказался.
– Мы довольны вами, капитан, – сказал Марусин.
– Благодарю вас, сэр, – пробормотал де Сойя, украдкой оглядываясь по сторонам.
– И мы тоже, – пророкотал кардинал Лурдзамийский. – Вот почему мы выбрали именно вас.
– Выбрали для чего, ваше преосвященство? – У де Сойи от напряжения и сумятицы в мыслях вновь закружилась голова.
– Для осуществления миссии, которую поручают вам Орден и Церковь, – проговорил адмирал, наклоняясь вперед. В свете звезд – луны у Пасема не было – де Сойя отчетливо видел черты его лица.
Где-то зазвонил колокол, созывая монахов к вечерне. На близлежащих зданиях вспыхнули прожектора, направленные на купол собора.
– Как обычно, – продолжил кардинал, – докладывать будете своему командованию и представителю Церкви. – Он бросил взгляд на адмирала.
– А что за миссия, ваше преосвященство? Или мне следует спросить у господина адмирала? – Марусин являлся прямым начальником де Сойи, однако высшие офицеры Ордена все же уступали рангом прелатам Церкви.
Марусин кивнул Марджет Ву, которая приблизилась к скамье и протянула де Сойе голокуб.
– Включите, – велел адмирал.
Де Сойя надавил пальцем на выступ на днище керамического куба. В воздухе сформировалось изображение девочки. Капитан стал вращать изображение, отметив про себя темные волосы и пристальный взгляд широко распахнутых глаз. Картинка разогнала тьму вокруг скамьи; подняв голову, де Сойя увидел, что изображение отражается в зрачках кардинала и Марусина.
– Ее зовут… – Кардинал помолчал. – Вообще-то мы точно не знаем. Как по-вашему, святой отец, сколько ей лет?
Де Сойя прикинул, перевел гиперионские годы в стандартные и ответил:
– Наверно, двенадцать. – Честно говоря, он не слишком хорошо умел определять возраст детей. – Быть может, одиннадцать. Разумеется, стандартных.
– Ей было одиннадцать лет по гиперионскому календарю, когда она исчезла двести шестьдесят с лишним стандартных лет тому назад.
Де Сойя вновь повернулся к изображению. Вероятнее всего, девочка давным-давно мертва или же успела несколько раз воскреснуть, если, конечно, ее крестили. Интересно, зачем ему показывают этот портрет?