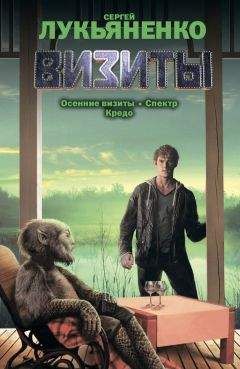Юрий Сергеевич был Мартину симпатичен. И даже с большинством его воззрений Мартин вполне мог согласиться. И аллергией на внутренние органы он не страдал, в детстве зачитывался книгами о разведчиках и сыщиках, равно восхищаясь Шерлоком Холмсом, Ниро Вульфом, Эрастом Фандориным и Исаевым-Штирлицем. Джеймса Бонда Мартин не любил из патриотизма. Потом на долгое время кумирами его стали Богдан Рухович Оуянцев-Сю и Багатур Лобо[5], он лишь не мог решить, кому следует подражать – простоватому, но отважному и сильному Багатуру либо нервическому и проницательному Богдану.
Казалось бы, Юрию Сергеевичу достаточно было поговорить с Мартином, воззвать к его патриотизму и более или менее откровенно изложить ситуацию. Но Мартин понимал: в конторе не дураки сидят. И короткое пребывание в камере, и чудовищная пьянка, и завуалированные угрозы, и дурацкое производство в майоры – имело некий потаенный смысл.
Скорее всего – имело.
Прежде чем отправиться к ключникам, Мартин тщательно прокрутил в памяти весь вчерашний вечер, потом ночь. Все, что говорил и делал. Все перепады настроения и невнятные реплики, внимательно выслушанные гэбэшником.
Хорошо иметь в крови от природы и от предков полученный высокий уровень алкогольдегидрогеназы. А говоря по-прос-тому – не упиваться до потери памяти.
Впрочем, и Юрий Сергеевич мог похвастаться хорошей переносимостью алкоголя. Он тоже ничего не сказал – сверх того, что хотел сказать. Не выдал, почему спецслужбы выбрали именно Мартина. Не признался, путем какой хитрой операции Мартин может переубедить ключников.
Или переубеждать их вовсе не нужно? И дело совсем в другом?
Мартин вздохнул. Пока гадать бесполезно. Надо найти Иринку и посоветоваться с ней.
А для этого требуется пройти Врата. Несмотря на головную боль и общее препаршивое состояние.
– Нам лишь кажется, что мы живем непрерывно, – сказал Мартин, опускаясь в кресло перед ключником. – Фотону, быть может, тоже мнится, что он – частица, но мы-то знаем – он еще и волна.
– Любопытно, – решил ключник и заерзал. Это был мелкий ключник, то ли детеныш, то ли низенький от природы. Живой блеск глаз почему-то заставлял Мартина думать, что ключник молод.
– Тот ли я копался в песочнице, озабоченный строительством куличиков? – произнес Мартин. – Тот ли я путался в застежках, снимая первый бюстгальтер с первой женщины, и преждевременно кончил? Тот ли я зубрил ночами, впихивая в голову знания, никогда не потребовавшиеся в жизни? Тот ли я, что сейчас сидит перед тобой? Атомы моего тела сменились несколько раз, все, во что я верил, оказалось недостойным веры, все, что я высмеивал, оказалось единственно важным, я все забыл и все вспомнил… так кто же я? Частица или волна? Что во мне от мальчика с кудрявыми волосами, глядящего исподлобья со старого снимка? Узнает ли меня школьный друг, вспомнит ли мои губы девчонка из параллельного класса, найду ли я, о чем говорить со своими учителями? Взять меня пятилетнего – да в нем больше сходства с любым пятилетним ребенком, чем со мной! Возьми меня восемнадцатилетнего – он тоже думает гениталиями, как любой восемнадцатилетний пацан! Возьми меня двадцатипятилетнего – он еще мнит, что жизнь вечна, он еще не вдыхал воздух чужих миров. Так почему же мы думаем, будто нам дана одна-единственная непрерывная жизнь? Самая хитрая ловушка жизни – наша уверенность, что умирать еще не доводилось! Все мы умирали много раз. Мальчик с невинными глазами, юнец, веселящийся ночами напролет, даже тот, взрослый Мартин, нашедший всему в жизни ярлычок и место, – все они мертвы. Все они похоронены во мне, сожраны и переварены, вышли шлаком забытых иллюзий. Маленький мальчик хотел быть сыщиком – но разве его мечты имеют хоть каплю сходства с моей нынешней жизнью? Юноша хотел любви – но разве он понимал, что хочет лишь секса? Взрослый распланировал свою жизнь до самой смерти – но разве сбылись его планы? Я уже другой… я каждый миг становлюсь другим, вереница надгробий тянется за мной в прошлое – и никаких Библиотек не хватит, чтобы каждый умерший Мартин получил по своему обелиску. И это правильно, ключник. Это неизбежно. Уныл и бесплоден был бы мир мудрых старцев, прагматичен и сух мир взрослых, бестолков и нелеп мир вечных детей. Грусть и виноватость вызывает ребенок, отвергающий детство, торопящийся жить, вприпрыжку несущийся навстречу взрослости. Грусть и виноватость… будто наш мир оказался слишком жесток для детства. Смущение и жалость вызывает взрослый, скачущий наперегонки с детишками или балдеющий в сорок лет под «металл». Смущение и жалость… будто наш мир оказался недостойным того, чтобы вырасти. Молодящиеся старички, мудрствующие юнцы – все это упрек миру. Слишком сложному миру, слишком жестокому миру. Миру, который не знает смерти. Миру, который хоронит нас каждый миг. Если бы мне дали самую вожделенную мечту человечества, если бы мне вручили бессмертие, но сказали: «Расплатой будет неизменность» – что бы я ответил? Если в открывшейся вечности я был бы обречен оставаться неизменным? Слушать одну и ту же музыку, любить одни и те же книги, знать одних и тех же женщин, говорить об одном и том же с одними и теми же друзьями? Думать одни и те же мысли, не менять вкусы и привычки? Я не знаю своего ответа, ключник. Но мне кажется, это была бы чрезмерная плата. Страшная плата, с лихвой перекрывающая вечность. Наша беда в том, ключник, что мы как фотон – дуальны. Мы и частица, и волна… язычок пламени-сознания, что пляшет на тяжелых нефтяных волнах времени. И ни от одной составляющей мы отказаться не в силах – как фотон не может остановиться или потерять одну из своих составляющих. И в этом наша трагедия, наш замкнутый круг. Мы не хотим умирать, но мы не можем остановиться – остановка будет лишь иной формой смерти. Вера говорит нам о жизни вечной… но чья жизнь имеется в виду? Меня – малыша, быть может, самого невинного и чистого, каким я был? Меня – юноши, романтичного и наивного? Меня – прагматичного и сухого? Меня, разбитого старческим маразмом и болезнью Альцгеймера? Ведь это тоже буду я… но каким же я воскресну в вечности, неужели беспомощным слабоумным? А если я буду пребывать в здравом уме и твердой памяти – то чем провинился обеспамятевший старик? А если воскреснет каждый «я» – то хватит ли места в раю хотя бы для меня одного?
Мартин замолчал на миг, втайне надеясь, что ключник что-нибудь скажет.
Но ключники никогда не давали ответов. Маленький ключник возился в кресле, внимательно смотрел на Мартина и молчал.
– Лишь иллюзия непрерывности дает силы жить, не замечая тех нас, что, будто тени, падают к ногам, – сказал Мартин. – При каждом шаге, при каждом вдохе. Мы умираем и оживаем, мы оставляем мертвым хоронить своих мертвецов. Мы идем, зная, что мы – частица, но надеясь, что мы – волна. У нас нет выбора, как нет выбора у фотона, несущегося от звезды к звезде. И может быть, мы должны быть благодарны за то, что у нас нет выбора.