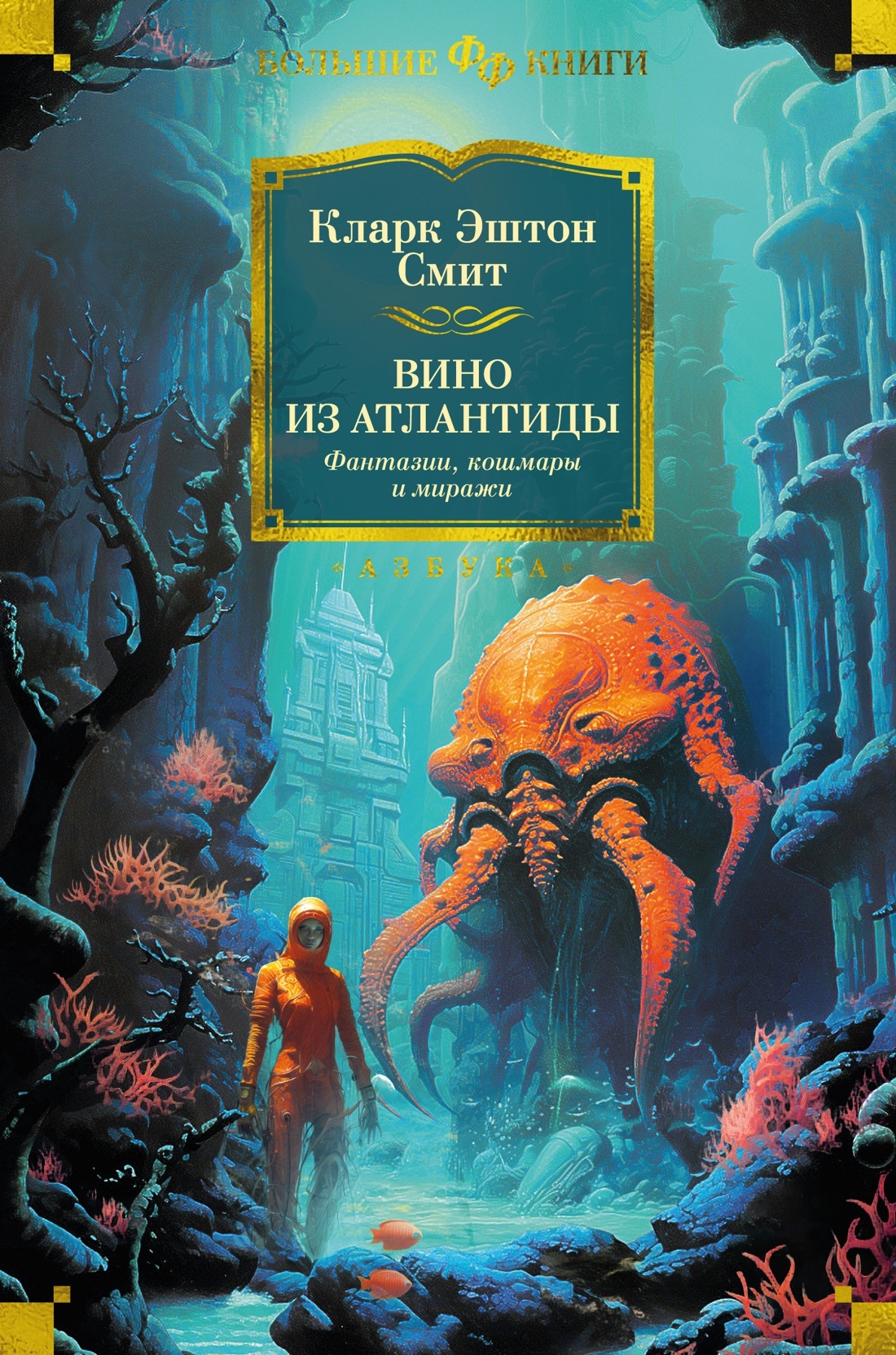все о вашем отце и о себе самом. А пока что я попробую найти для вас комнату. Прошу, идемте со мной.
Мы поднялись на второй этаж, и он повел меня по длинному коридору с потолочными балками и панелями старого дуба. Мы миновали несколько дверей, – несомненно, они вели в спальни. Все были закрыты, а одна укреплена железной решеткой, толстой и зловещей, как в тюремной камере. Я, разумеется, предположил, что там и держали чудовищного ребенка, и задумался, жив ли еще уродец, ведь прошло лет тридцать. Как, надо полагать, безмерно, ужасающе далек от человеческого образа он был, раз его понадобилось срочно укрывать от посторонних взглядов! И какие особенности его дальнейшего развития могли потребовать массивных решеток на дубовой двери, которая сама по себе способна выдержать атаку любого обычного человека или зверя?
Даже не взглянув на дверь, мой хозяин прошел дальше; свеча в его слабых пальцах почти не дрожала. Я двигался за ним, и тут мои размышления внезапно прервал душераздирающий громкий крик, шедший, судя по всему, из-за зарешеченной двери. Долгий, нарастающий вопль, вначале очень низкий, будто заглушенный могилой голос демона; затем, пройдя несколько отвратительных стадий, он поднялся до пронзительной ненасытной ярости, словно демон выбрался из подземелья на поверхность. То не был ни человеческий, ни звериный вопль – он звучал абсолютно противоестественно, адски, макабрически, и я содрогнулся от нестерпимого ужаса, который не исчез, когда голос демона, достигнув кульминации, стал постепенно стихать и вернулся к глубокой гробовой тишине.
Сэр Джон с виду не обратил никакого внимания на этот ужасный звук, но продолжил путь, пошатываясь не больше обычного. Он дошел до конца коридора и теперь медлил перед второй комнатой после заколоченной двери.
– Я предоставлю вам эту комнату, – сказал он. – Она рядом с той, что занимаю я.
Говоря это, он не повернул ко мне лица, а его голос был неестественно ровным и сдержанным. Снова содрогнувшись, я сообразил, что комната, которую он обозначил как свою, соседствует с той, откуда доносились страшные завывания.
Покои, куда он меня привел, несомненно, пустовали годами. Воздух был стылым, спертым, нездоровым, все было пропитано затхлостью, а на древней мебели осели неизбежные украшения в виде пыли и паутины. Сэр Джон принялся извиняться:
– Я не знал, что комната в таком состоянии. После ужина пришлю Харпера, он тут приберется, вытрет пыль и постелет свежее белье.
Я стал возражать, довольно вяло, что извиняться ему нет нужды. Сиротливое одиночество и обветшание старого особняка, годы и десятилетия прозябающего в запустении, и такая же заброшенность его хозяина произвели на меня удручающее впечатление. И я не осмелился сверх меры размышлять о страшной тайне зарешеченной комнаты и адского воя, который до сих пор эхом отдавался в моих взвинченных нервах. Я уже сожалел, что необыкновенный случай привел меня в этот дом, полнящийся злом и пагубными тенями. Мне нестерпимо хотелось уйти и продолжить путь, пусть даже под холодным осенним дождем, на ветру и в темноте. Но я не смог придумать убедительного и уважительного предлога. Было ясно, что я вынужден буду остаться.
Старик, которого сэр Джон назвал Харпером, накрыл нам ужин в мрачной, но величественной комнате. Еда была простая, но сытная и хорошо приготовленная, а обслуживание безупречно. Я уже догадывался, что Харпер здесь единственный слуга – камердинер, дворецкий, эконом и повар в одном лице.
Хотя я был голоден, а хозяин прилагал все усилия, чтобы я чувствовал себя непринужденно, трапеза получилась церемонной и едва ли не траурной. Из головы не шел отцовский рассказ, и уж тем более не мог я забыть зарешеченную дверь и зловещие завывания. Каково бы ни было чудовище, оно выжило, и я смотрел на осунувшееся и мужественное лицо сэра Джона Тремота со сложной смесью восхищения, жалости и ужаса, размышляя о том, в каком прижизненном аду он обречен существовать, и о том, с какой стойкостью он несет свои вериги.
Принесли бутылку великолепного хереса. За ней мы просидели больше часа. Сэр Джон пространно говорил о моем отце, о чьей смерти он до того не слышал, и вывел меня на рассказ о моих собственных делах с ненавязчивой ловкостью опытного светского человека. О себе он сказал немного и ни намеком, ни полусловом не коснулся трагической истории, которую я вам пересказал.
Я почти не пью и не так уж часто осушал свой бокал. По этой причине бо́льшая часть хереса досталась хозяину дома. К концу ужина это пробудило в нем тягу к доверительной беседе, и он впервые заговорил о болезни, совершенно явно заметной по его внешности. Я узнал, что он страдает весьма болезненным сердечным недугом, грудной жабой, и только что оправился от необычайно сильного приступа.
– Следующий меня прикончит, – сказал он. – А случиться он может когда угодно, хоть бы и сегодня.
Он объявил об этом очень просто, словно сообщал какую-то банальность или пытался предсказать погоду. Затем, немного помолчав, он продолжил веско и с нажимом:
– Возможно, вы решите, что я чудак, но я чрезвычайно предубежден против захоронения или погребения в усыпальнице. Я желаю, чтобы мои останки тщательно кремировали, и оставил на этот счет подробные указания. Харпер позаботится, чтобы их выполнили. Огонь – чистейшая из стихий, он сокращает ужасный путь от смерти до полного исчезновения. Мне невыносима мысль о затхлой, кишащей червями могиле.
Он еще некоторое время рассуждал на эту тему, причем так увлеченно и подробно, что было ясно – он много думает на эту тему, если не сказать одержим ею. Судя по всему, предмет этот обладал для него нездоровым очарованием: в его запавших глазах появился болезненный блеск, а в голосе – оттенок тщательно подавляемой истерики. Я припомнил подробности погребения леди Агаты, ее трагического воскрешения, а также самую необъяснимую и тревожащую часть всей истории – горячечное упоминание о темном ужасе, обитающем в усыпальнице. Было нетрудно понять неприязнь сэра Джона к погребению, но я и близко не представлял себе, какой ужас, какая мерзость лежат в основе этой неприязни.
Принеся нам херес, Харпер исчез – я предположил, что ему было велено привести в порядок мою комнату. Мы осушили по последнему бокалу, и хозяин закончил свои речи. Вино, ненадолго оживившее его, как будто выветрилось, и он выглядел еще более нездоровым и изнуренным, чем раньше. Сославшись на собственную усталость, я выразил желание удалиться, а он с неизменной обходительностью настоял на том, чтобы проводить меня и убедиться, что мне комфортно, прежде чем самому лечь в постель.
Наверху мы встретили Харпера,