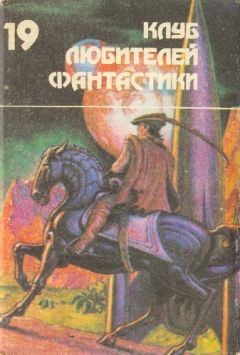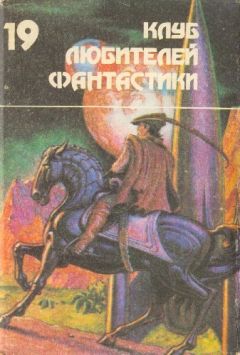Бульбур умолк, утробно вздохнул, побледнел, а затем стал устойчиво-синим.
— Том! — Люси вцепилась ногтями в локоть мужа. — Неужели он говорит о том, что мы должны его съесть? Думай, Том! Ты наверняка узнал от опринкиан что-то такое, что помогло бы предотвратить этот ужас!
— Увы, — вздохнул Том.
— Но надо же что-то делать!
— Что? — обреченно выговорил Том. От бульбура потянулась золотистая нить мелодии. Она звучала все громче и громче.
— Не знаю что! Но что-то сделать надо! Том в полном отчаянии оглянулся, ища хоть какую-то зацепку. Его не покидала мысль о том, что он почти сумел убедить бульбура, убедить в том, что их, бульбурский образ мыслей для Вселенной не уникален. У него в голове все еще звучала песня, которую Котинк подарил ему, только ему одному.
— Нужно, — прошептал Том, — чтобы какой-то другой бульбур своим пением убедил Котинка противостоять джакталу. А это невоз…
— Ой, ради… — нетерпеливо прервала мужа Люси и громко запела по-французски:
— Отречемся от старого мира! — Том практически с первого слова догадался о том, что задумала жена, и подхватил песню тем баритоном, которым обычно напевал, стоя под душем. Красивое сопрано Люси уже выводило вторую строчку:
— Отрясем его прах… Пойте же! — крикнула Люси Пэрент стоявшему рядом с ней мсье Пуртуа. Тот ошарашенно уставился на нее. Но он был не только послом Франции, он был настоящим французом, французом до мозга костей. И он не мог в такой ситуации отмолчаться. Он открыл рот и присоединил свой приятный тенор к голосам Тома и Люси.
— В чем дело? — прорычал Бу Хьярк, резко развернувшись мордой к Тому. На его крокодильей физиономии застыло выражение ярости, он страшно оскалился и устрашающе занес меч.
Том судорожно сглотнул подступивший к горлу комок, но продолжал петь.
А «Марсельеза», национальный гимн Франции, уже срывалась со многих губ, пусть даже их владельцы были озадачены донельзя. Она звучала боевым кличем, призывавшим восстать против тирании. Меч джактала взметнулся. Все глоки как один развернулись к Тому. Но вдруг зазвучала высокая, пронзительная нота, на две октавы выше верхнего «фа». Она была такой силы, что все в зале сразу умолкли и как один обратили взоры к лежавшему на столе бульбуру.
Конечно, эта волнующая нота исходила от него. Он вытянулся вверх, став почти вдвое выше, чем раньше. Как и откуда он мог что-то знать о «Марсельезе» — этого Том понять не сумел, но Котинк снова сменил цвет. Нижний его слой стал темно-синим, середина — белой, а верхушка — красной… Он приобрел цвета французского флага! Окружавшие бульбура гости застыли, словно солдаты на параде, а Котинк запел следующие строки:
Нам враждебны златые кумиры,
Ненавистен нам царский чертог!
Бульбур пел на чудовищном английском, но, казалось, никто этого не замечал.
Песня его была обращена непосредственно к Бу Хьярку. Стоявшие кругом люди и инопланетяне воочию видели, как могущественная сила бульбурского пения пронзает страшное эго джактала, как мог бы пронзить острый джактальский меч мягкое тело бульбура. Теперь пели уже все гости резиденции. Как заговоренные, дипломаты и правительственные чиновники — люди и инопланетяне — хором подпевали бульбурской «Марсельезе»:
Отречемся от злобных джакталов,
Злобных наффингов, глоков тупых,
Мы устали от этих шакалов,
Впредь терпеть не намерены их!
Надо их отучать с колыбели
От привычки командовать «пли!»,
Чтобы бульбуров кушать не смели,
Чтобы мир нарушать не смогли!
А потом, когда все умолкли, стало видно, как дрожит с головы до ног джактальский посол. Бу Хьярк, выпучив глаза, все сильнее наклонялся вперед и в конце концов рухнул на пол, словно срубленная под основание башня. И тогда жалобно завыли глоки и спандулы.
— Ззатц! — вопили они. — Ззатц! Ззатц! Когда же наконец смолкли и их вопли, все увидели, что лежавший на блюде бульбур стал умиротворенно-розовым.
— Джакталы, — негромко заметил Котинк, слегка склонив свое студенистое тело к упавшему Бу Хьярку, — также считаются довольно приятными на вкус.
— И эта фраза, — сказал Том, когда они с Люси уже были дома и собирались лечь спать, — наверняка войдет во все учебники по истории нашего галактического Сектора. Войдет как пример самого грубого выражения, на которое вообще способен взрослый бульбур.
— Но что же теперь станет с бульбурами? — спросила Люси. — Ты что-нибудь выяснил во время длиннющего разговора по личному телефону с Домэнго?
— Теоретически бульбуры теперь должны стать правителями Джактальской империи, но что произойдет на самом деле — я не знаю. После того как заморочка в резиденции утихла, Домэнго долго беседовал с Котинком наедине. Еще раз они встречаются завтра в кабинете у Домэнго. Наш бульбур утверждает, что остальные бульбуры готовы ратифицировать любое сделанное им заявление — хотя бы только потому, что не решатся причинить ему огорчение отказом.
— Они настолько деликатны? — поинтересовалась Люси.
— Угу, — кивнул Том и задумчиво пригубил шампанское. Люси настояла, чтобы по такому случаю была откупорена бутылка. — Но при этом достаточно прозорливы, как подозревает Домэнго, и я с ним согласен. Домэнго сказал, что бульбур в процессе их беседы произнес одну очень интересную фразу: «Нет ни для одного существа более высокого проявления любви, нежели воспринять власть как долг, но не как привилегию».
— Ты прав, — согласилась Люси. — Сказано здорово, но все равно в этой фразе есть что-то зловещее.
— Вот именно, — проворчал Том. — И как бы то ни было, Секретариат в спешном порядке наращивает штат. Теперь у нас будет целый Отдел Технических Советников — но мы с тобой туда не войдем.
— Нет? — возмутилась Люси. — И это — после сегодняшнего? О чем это, интересно, Домэнго думает?
Том тяжело вздохнул. Рекс сонно лизнул его руку.
— Люблю Тома и Люси, — лениво телепатировал он.
— На этот счет Домэнго меня не просветил. Супруги умолкли и выпили еще немного шампанского. В наступившей тишине стали хорошо слышны крики, доносившиеся со стороны парка, где шел футбольный матч.
А Тому и Люси казалось, что они все еще слышат жалобные вопли глоков и спандулов:
«Зззатц! Ззатц!»
— Этот момент имеет определяющее значение для жителей нашей планеты, — сказал Домэнго. Том и Люси сидели в его кабинете, который теперь был залит лучами утреннего солнца, проникавшими сквозь громадные окна. Домэнго восседал за своим письменным столом, Том и Люси — напротив, в удобных креслах. После вечеринки в посольстве прошло два дня. — Поэтому простите меня, если я буду говорить сбивчиво, — продолжал Домэнго. — Почти всю ночь я беседовал не только с опринкианским представителем на Кайяно, но и еще кое с кем из Совета Сектора.