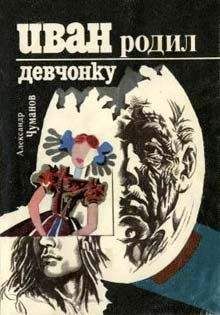Только в половине второго ночи мы приехали в гараж. Пока я сливал воду, Иван терпеливо дожидался меня у ворот.
Теперь уже все равно никуда не пробьешься, — сказал он, — далеко ли у вас тут железнодорожный вокзал?
— Ну, нет, — запротестовал я, — заночуешь у меня, я тебя привез, я за тебя и отвечаю.
Он не стал отказываться, усталость или что другое как-то заметно пригнули его, даже, пожалуй, уменьшили ростом.
—Вряд ли вам будет удобно со мной нынче…— тихо сказал он, возможно, просто подумал вслух.
Светили фонари, свежий снег сверкал так, что рябило в глазах. И тут вдруг я почувствовал, что очень соскучился по жене. Ну, просто хоть бегом беги. И раньше скучал в командировках, но чтобы так… Может, все дело в присутствии Ивана?
Катька встретила нас хмуро.
— Вот, Кать, это Иван, наш старый знакомый, ему негде ночевать…— бодро начал я.
— У нас много старых знакомых, — враз отрезвила она меня, — небось, когда ты в кабине гнешься, никто не пригласит в теплую, мягкую постельку, разве что добрая какая найдется.
— Ну что ты, Катюша…
…Так что извините, гражданин, но поищите другое место, у нас теснота. А ты, Дима, расскажи товарищу, как пройти на вокзал.
И она притворила дверь. Ну что с нее возьмешь, кабы она знала, что прогоняет не кого-то, прогоняет Любовь… Об этом все всегда узнают слишком поздно.
Мы снова вышли на улицу.
— Стерва, — сказал я и развел руками.
— Ну что ты, как можно такое, — попытался утешить меня Иван, — наоборот, было бы странно…
Я показал ему дорогу, и мы расстались.
А наутро меня вызвали в милицию. Усатый капитан с невыспавшимся лицом начал без предисловий:
— Сегодня ночью, около трех часов, недалеко от вашего дома был найден труп неизвестного гражданина. Документов при нем не найдено, но те, кого мы уже приглашали на опознание, утверждают, что где-то видели этого человека. Однако никто не мог вспомнить, где и когда именно. Может быть, вы скажете что-нибудь определенное?
Он провел меня в соседнюю комнату, откинул белую простыню.
— Да, — сказал я с трудом, — я знаю этого гражданина… Как это все случилось?
— Подростки, — сказал капитан, вздохнув. — Шестнадцать-семнадцать лет. Возвращались с дискотеки, подошли, попросили закурить. Он не курил… Он умер, не приходя в сознание. Так как его звали, помните?
«Но как, как могли его убить, если моя рука v запросто проходила через него, как через пустое место?»
— Так как его звали, помните? — повторил свой вопрос капитан.
— Иван. Иван Любовь.
— Странная фамилия. И редкая…
— Очень странная. И совсем редкая, — согласился я.
Валеркина мамаша, выражаясь языком протокола, вела антиобщественный образ жизни. Впрочем, нельзя не напомнить, что молодость этой женщины пришлась на время послевоенное, которое мало для кого выдалось счастливым. А для нее в особенности. Она была девушкой некрасивой, а потому на личное счастье рассчитывать не могла.
В то время даже самые плохонькие мужичошки были страшно разборчивы, а цены на нормальных мужчин держались и вовсе недоступно высоко. Валеркина мамаша, должно быть, хотела поймать свою Жар-Птицу при помощи постоянно открытой настежь двери. Ее родители в войну померли, и осталась она в ветхой избенке одна-одинешенька, сама себе голова.
И действительно, эту всегда распахнутую дверь, откуда слышались удалые, бесшабашные или, наоборот, тоскливые песни, многие не обошли.
— Допрыгаешься, Глашка, — пытались внушать односельчане, но это были слова, брошенные на ветер.
Да, дух немудреной закуси и дрожжей, а особенно повисшая на одной петле дверь привлекали мужиков, а чаще всего, конечно, приезжих. Были и среди своих, деревенских, желающие забрести на огонек, были, как не быть. И забредали, случалось. За что обиженные бабоньки били стекла в избушке и карябали ногтями Глашкину личность. А она заштукатуривала царапины и синяки пудрой, забивала пустые рамы фанеркой, но не хотела, а может, и не могла остановиться.
Приезжие, которые случались в деревне по различным надобностям, селились у Глашки в открытую, наводя местных на стойкую мысль о безнравственности городских.
— Ты, Глашка, лучше бы куда-нибудь завербовалась в дальние края, — советовали односельчане, — там тебя никто не знает. Может, и нашла бы свою долю.
И она впрямь хотела послушаться мудрого совета, хотела завербоваться туда, где в страшных количествах ловили селедку, — в ту пору водилась еще такая, — хотела, но ее не взяли. Потому что была она уже, можно сказать, не одна.
И правда, через некоторое время у нее родился Валерка.
По нынешним понятиям, ведя такой образ жизни, нипочем нельзя родить нормального ребенка. А раньше ничего не знали и рожали.
«Ну, — обрадовались люди, — теперь остепенится баба!»
Но ничего подобного не случилось. Могло даже показаться, что она и не заметила, как сделалась матерью. Уж как весело она хохотала в сельсовете, заполняя на сына метрику.
— Что ты там нашла смешного? — недовольно спросила Глашку секретарь.
— Да вот, «отчество», — ответила та и снова заржала, как кобыла. Она даже приблизительно не могла сказать, кто тот счастливый отец.
— Значит, пиши свое отчество, — хмуро под сказала секретарь, не оценившая комичности ситуации.
Маленький Валерка рос сам по себе, мать жила сама по себе. В избушке продолжали колготиться залетные ухажеры, но с годами их становилось все меньше, меньше. И никто не заметил, как их не стало совсем. Мать ставила за печкой бражку и два дня ходила трезвой и хмурой, а на третий снимала пробу и снова становилась веселой и безмятежной. О счастье мечтать она уже к тому времени перестала.
«Вот вырастет на нашу голову», — думали соседи про Валерку и хлопотали для парня место в детском доме. Но мест не хватало даже для сирот. А парень рос, бегал в школу, и постепенно люди с удивлением и радостью убеждались, что, кажется, они ошиблись в своих мрачных прогнозах. Хоть Валерка в школе и тащился кое-как на троечки, но рос он парнем богатырского телосложения и ангельской кротости. Хотя эта кротость и была выборочной. Так, например, люди доподлинно знали, что мать много раз совала Валерке кружку с зельем, надеясь, что сынок составит ей компанию, а он всегда отказывался. Когда же она однажды слишком настойчиво пыталась угостить его, малец замахнулся табуреткой.
— Отстань, мамка, убью! — хрипло буркнул он, и мать, на миг протрезвев, ужаснулась и больше не приставала.
Зато с односельчанами он был уважителен, чем выгодно отличался от своих хамоватых одногодков. Все жалели парня и, как могли, облегчали его непростую жизнь.