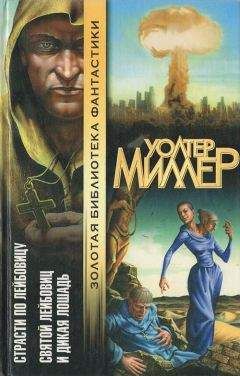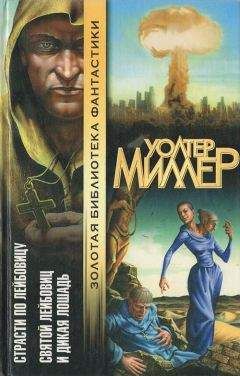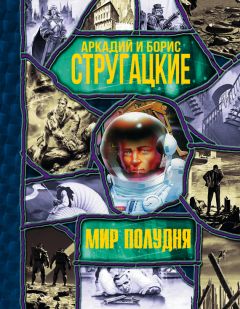Тем временем папа начал терять все надежды на заключение мира. После долгих и шумных похорон шамана воины Кузнечиков истово жаждали крови. Среди них было много пьяных, и, хотя папа не видел церемонии погребения, Коричневый Пони подозревал, что многие из них попробовали печени и легких шамана.
— Ты должен понять, что мой эмиссар отправился в город, чтобы заключить с ним мир, — сказал он Элтуру Браму.
— Вы имеете в виду Нуйиндена. Нимми.
— Моего кардинала, — сказал Коричневый Пони. — Члена моей курии.
— Значит, кардинала Нимми, — сказал вождь Кузнечиков.
Он сидел вместе с его святейшеством у заднего бортика папского фургона, наблюдая, как вокруг главного лагерного костра орут и беснуются воины. Для Кочевников обилие топлива, пусть и сырого, было в новинку. Пламя вздымалось все выше и выше.
— Они хотят отомстить, — сказал Элтур Брам. — Можете ли вы осуждать их? Могу ли я запрещать им? Они хотят мести, она нужна им, как трава лошадям.
— Победа Церкви удовлетворит их жажду мести, — сказал Коричневый Пони, но, произнося эти слова, он понимал, что сам не верит в них. По грязной земле вокруг них метались тени; небо было заплетено ветвями. Коричневый Пони мечтал о четких очертаниях и открытых горизонтах пустынь и прерий. Здесь, в лесу, звуки и запахи обступали со всех сторон.
Тра-та-та. Воины вздымали ружья к небу, звездные россыпи которого еле виднелись между деревьями. Вождь Кузнечиков был вынужден выдать своим бойцам только по два патрона, но он знал, что у Коричневого Пони есть боеприпасы, которые магистр Дион в соответствии с договором оставил в караване.
— Вы должны раздать им остатки медных пуль, ваше святейшество, — с любезной улыбкой добавил Дьявольский Свет. Амен II отрицательно покачал головой.
— Им придется дождаться возвращения моего эмиссара. И затем твои воины смогут с триумфом въехать в город, — строго говоря, Коричневый Пони уже испытывал беспокойство. Он понимал, что если к утру Чернозуб не вернется, то он, скорее всего, убит. Может, даже повешен в соответствии с приказом об изгнании, который оба они подписали при освобождении из зоосада в Ханнеган-сити.
— Значит, завтра, — сказал Элтур Брам, глядя в безлунное небо, скрытое кронами деревьев. Папа взял его за руку.
— Тебе придется контролировать их! — сказал он. По ту стороны поляны отблески костра падали на карету вождя с девизом «Я разжигаю пожары», намалеванным на дверце. — И пожаров не будет, Дьявольский Свет. Стоит фермерам увидеть твои силы, они тут же сложат оружие. Может, они уже сдались Нимми.
— Думаю, что нет, ваше святейшество.
— Словом, я не хочу никаких пожаров в Новом Риме. Я прибыл сюда, чтобы возродить город, а не уничтожить его, — папа сжал руку вождя. Их позы напоминали матч по армрестлингу, но папе было нужно не столько одержать верх над соперником, сколько показать ему, что он видит и знает намерения Кочевников. — Никаких пожаров, понимаешь?
— Понимаю, — сказал Элтур Брам. Высвободив руку, он встал и направился к своим воинам у костра.
— Я вызвал бурю, с которой не в состоянии справиться, — пробормотал папа, когда, вернувшись в фургон, стал готовиться ко сну.
Он разговаривал с Вушином, который стоял в тени рядом с фургоном. Желтолицый воин пожал плечами. Он-то не сомневался, что такова природа всех штормов и всех войн.
Фермеры подошли к лагерю, когда папа уже спал. Спешившись, они перевели лошадей через ручей, но проснулись собаки и разбудили воинов, которые вповалку спали вокруг тлеющих костров. Схватка была короткой, яростной и, если не считать вскриков и стонов, почти безмолвной. Кузнечикам не хотелось пускать в ход те несколько пуль, что у них имелись, и они схватились за ножи и дубинки, которые лежали рядом с ними там, где полагалось спать женщинам.
Когда рассвело, вода в небольших заводях у берега была красной от крови. Смерть от ножевых ран наступала не сразу, некоторые фермеры продолжали корчиться, хватая ртами воздух, как рыбы. Четверо из них попали в плен, не получив никаких ран, если не считать ременных уз, продернутых сквозь щеки. Связанные, они сидели в тени фургона — один плакал, а другие молча ожидали решения своей участи.
Проснувшись, понтифик увидел, что лагерь почти опустел. Воины Кузнечиков исчезли вместе со своими лошадьми и псами.
— Ты же сказал, что будешь ждать! — пожаловался он вождю Браму, найдя его за завтраком у костра.
— Они не оставили нам выбора, — военачальник пожал плечами. — Они попытались угнать наших лошадей.
Коричневый Пони ткнул ногой тлеющую головню.
— Всего лишь несколько идиотов. Ты мог просто прогнать их.
Элтур Брам снова пожал плечами.
— За ними погнались собаки. Моим людям пришлось последовать за собаками. Хотя им отдан приказ не жечь город.
Коричневый Пони не поверил ему. И еще до полудня над стеной леса на востоке потянулся дымок, который шел со стороны города, все еще скрытого от глаз.
Свинья исправно толклась у решетки, но тюремщик так и не показывался. Просунув свой пятачок между прохладными прутьями решетки, свинья улеглась перед ней, глядя на Чернозуба, который тщетно пытался молиться.
Когда занялось утро, Чернозуб услышал вдали выстрелы, сопровождаемые криками, которые все приближались; на узкой улице за стенами тюрьмы раздались звуки шагов. У него еще были при себе шесть маленьких пилюлек, но запить их было нечем. Теплой воды в ведре у дверей он опасался, так что проглотил пилюлю, собрав остатки слюны во рту. Воды он попил лишь ближе к полудню.
Когда его заперли в камере, он уже хотел есть, и теперь голод становился просто нестерпимым. Прикинуть, сколько сейчас времени, было трудно, ибо солнце затянули дождевые тучи, из которых весь день на улицы сыпалась какая-то морось, превращавшаяся в грязь под ногами тех, кто случайно показывался на улице, — только собаки и ни одного человека.
Свинья появилась снова к полудню, насколько Чернозуб смог разобраться со временем.
Пилюли он держал в кардинальской шапке, которую ему позволили оставить при себе вместе с крестом и четками. В ней пилюли оставались сухими. Похоже, они подействовали. Жар спал, сошли на нет спазмы и колики, которые день за днем, особенно по утрам, не давали ему покоя. Но он маялся одиночеством без Эдрии и Амена, своих спутников, которые не только прогуливались рядом с ним в снах, но и сопровождали его в тех бесконечных мечтаниях наяву, которые, как позже выяснилось, и были его жизнью.
Никогда еще Чернозуб не был так одинок. Он с теплотой вспоминал даже Коричневого Пони и клетку в зоопарке Ханнеган-сити, когда за ними подглядывали заключенные Дикие Собаки и, глазея на них, веселились горожане. Он вспоминал и задумчивого, молчаливого Вушина, и нахального, порывистого Аберлотта, любителя городской жизни. Ему не хватало их всех. Даже Поющей Коровы. В своей одиночной подвальной камере Чернозуб восстанавливал в памяти жизнь аббатства Лейбовица, удивляясь, насколько тонко и продуманно в ней сочетались уединение и общение, составлявшие суть монастырского бытия. Есть люди, созданные для одиночества, но их немного — и уж он-то к ним не относится. Спеклберд лелеял свое одиночество, ибо оно было пронизано духовностью. По сути, он никогда не был один. Одиночество Эдрии имело истоком ее происхождение из «привидений» — их никто не принимал и все презирали.