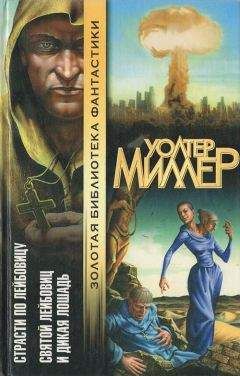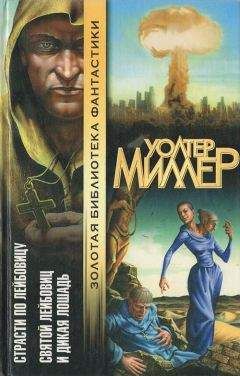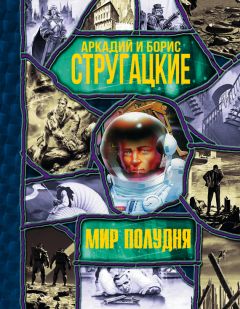— Эй!
Чернозуб прижался к стене. Все ли прутья решетки можно так же легко выломать? Тюрьма напоминала аббатство; все, что надо сделать, это выйти из нее, и ты свободен.
Чернозуб подождал, пока не убедился, что старуха и мальчик-уродец ушли, затем просунул кардинальскую шапку и тюремное одеяло сквозь решетку и выбрался сам.
В воздухе густой пеленой висел дым, и он закрыл нос рукавом рясы. В тюремном подвале дышать было легче. В дальнем конце улицы он увидел ту же старуху с ребенком, которые сосредоточенно копались в мусоре, словно окружающий мир не был объят огнем. Похоже, они забыли о нем.
— Благословляю тебя, сын мой, — прошептал Чернозуб и побежал в другую сторону.
«И в день по возвращении да лягут они распростертыми на полу в часовне и вознесут в молениях просьбы о прощении всех ошибок, которые, к удивлению своему, могли совершить в дороге».
Устав ордена св. Бенедикта, глава 67.
В свои годы Чернозубу довелось увидеть только два города: Валану, построенную из дерева и камня, и Ханнеган-сити из глины и дерева. Святой Город, Новый Рим, был возведен из кусков сохранившихся развалин древних городов; он представлял собой смесь старого и нового, напоминая больше аббатство, чем город, где груды кирпича и камня возвышались над прежними грудами кирпича и камня, перемешанными с обломками дерева, с травой и соломой. Дерево было сухим и трухлявым, и Чернозубу казалось, что все оно тлело.
Он оказался на широкой прямой улице, по обеим сторонам которой возвышались груды щебня и выщербленные обломки башен, некогда бывшие «большими домами». Сначала он был на ней один, но по мере того как он шел к востоку, к восходящему солнцу и подальше от огня, улица заполнялась испуганными молчаливыми людьми. Чернозуб ощутил неожиданное и ненужное ему родство с этими перепуганными пожирателями травы, которые внезапно появлялись из подвалов и вылезали из развалин (точно как и он), таща свои жалкие пожитки в виде лохмотьев и горшков и волоча за собой домашних животных вместе с детьми. Все покидали город.
За их спинами раздавались выстрелы, отдельные и залпами. Если в городе где-то и дрались Кочевники, их не было видно. Как и боевых лошадей. Попадались только мулы и дряхлые клячи. Да еще бродячие собаки.
Беглецов охватило странное зловещее молчание. Можно было понять, если бы они плакали или кричали, но Чернозуб не слышал ни того ни другого — словно через окно своей подвальной камеры он попал в другой мир, где плакать или жаловаться позволялось только детям. Взрослые, которые, спотыкаясь, влачились вперед, были погружены в мрачное молчание. Может, они опасались, что их может выдать акцент, или, скорее всего, им просто уже нечего было сказать.
Новый Рим полыхал.
Чернозуб готовился к казни, и сейчас его покинуло даже чувство голода. Кто-то ухватил его за рукав — это были пальцы ребенка, — и каким-то образом, не понимая и не замечая, как это случилось, он оказался в составе маленькой группы людей, которые вытаскивали испуганного мула по ступенькам из какого-то подвала. Как он там очутился, кто был его хозяином и кому понадобился — все эти вопросы относились к другой реальности. Сейчас было нужно только одно — заставить испуганное и брыкающееся животное подняться по узким ступенькам. Так Чернозуб оказался в гуще толпы вместе с владельцем мула и ребенком — он торопливо шел вслед за ними. Поднялся ветер, и сзади встала стена горячего воздуха, гоня их к западу.
Держась за руки и надрывно крича какие-то песенные строчки, сквозь толпу проталкивались четверо мужчин и столько же женщин — все обнаженные. Чернозуб попытался отвести глаза от грудей женщин, но не смог. Он испытывал не желание, а какое-то другое, почти забытое чувство: то ли голод, то ли надежду. Мимо пробежали двое мужчин в форме с многозарядными ружьями, затем еще двое — все они бежали в ногу. Это производило едва ли не комическое впечатление. Чернозуб стянул с головы шапку и спрятал ее под сутаной. Упавший мул жалобно ржал в оглоблях повозки, пытаясь подняться. Его задняя нога была измазана кровью.
Огонь то ли приближался, то ли разгорался, а может, было и то и другое. В конце улицы, вздымаясь над «большими домами», стояла стена пламени. Теперь Чернозуб отбрасывал две тени — одна двигалась перед ним, а другая — сзади.
«Я разжигаю пожары» — Чернозуб вспомнил девиз, синий с золотом, написанный на дверце кареты вождя Кузнечиков.
Фермер наклонился над несчастным мулом и вытащил нож. Чернозуб схватил его за руку.
— Пусть живет, — сказал он на церковном.
— А? — фермер уставился на рясу Чернозуба, после чего перерезал постромки. Мул, всхрапывая, с трудом поднялся на ноги, и фермер заткнул нож за пояс.
— Я помогу тебе тащить, — сказал Чернозуб в этот раз на языке Кузнечиков. Он вытащил шапку и натянул ее на голову.
Повозка была двухколесная, грубой, как было принято у Кузнечиков, конструкции, на ней среди домашнего барахла сидела худая чернокожая старуха с двумя котятами, которых она все время целовала — сначала одного, а потом другого. Чернозуб потащил повозку, фермер подтолкнул ее, и к ним присоединились еще двое мужчин, побросавших свои пожитки в повозку рядом со старухой. Все они говорили на языке Кузнечиков с небольшой примесью церковной лексики и с ол’заркским акцентом. Они шли на восток, к Грейт-Ривер.
Чернозуб весь день держался при фермере с повозкой. Звали его Волосатый, хотя это могла быть и кличка — он был совершенно лысым. Фермер настолько щедро делился водой и пищей, что Чернозуб принял его за христианина, пока не понял, что фермер принял его красную шапку за военный головной убор. Хотя он жил в Святом Городе, о Церкви слышать ему не доводилось. Все люди для него делились лишь на фермеров и тексаркских солдат. Хотя по крови он принадлежал к Кузнечикам, для него народ, пришедший с равнин, «где не растут деревья», лишь в той или иной мере нес в себе человеческие черты. Для него они были чем-то вроде стихийного явления, как стадо коров или налетевший шторм.
Даже покинув свою подземную тюрьму, Чернозуб не мог отделаться от ощущения, что продолжает находиться в заключении, зажатый между стеной огня на западе и все еще невидимой рекой на востоке. К полудню дым окончательно закрыл солнце, и зловещий красный сумрак пологом затянул улицы. Чахлый ручеек беженцев превратился в мощный поток, стремящийся на восток. Хотя улицы стали шире, они не могли вместить в себя толпы беженцев, сплошь состоявшие из фермеров. В восточной стороне «большие дома» были еще выше, и тут совершенно отсутствовали деревья — Чернозуб и представить себе не мог, что когда-то ему будет не хватать их.