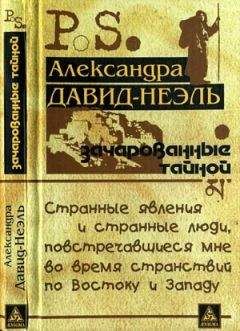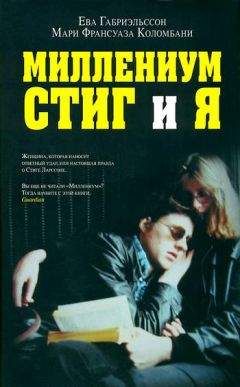По крайней мере, на это Эрика пожаловаться не сможет. Как бы долго они друг друга ни знали и как бы тесно ни были переплетены их жизни, у него по-прежнему развивался небольшой комплекс порядка. Он — холостяк из рабочей семьи, она — замужняя дама из высшего общества с прекрасным домом в Сальтшёбадене, и при любых обстоятельствах приличный вид его квартире не повредит. Загрузив посудомоечную машину и вымыв раковину, Микаэль побежал выносить мусор. Он даже успел пропылесосить гостиную, полить цветы на окне и навести относительный порядок на книжном стеллаже и полке с газетами, прежде чем, наконец, раздался звонок. В дверь не только звонили, но и стучали — явно пришел кто-то нетерпеливый.
Открыв, Блумквист по-настоящему растрогался. Перед ним стояла совершенно окоченевшая Эрика. Она дрожала, как осиновый лист, причем не только из-за погоды. Ее одежда тоже внесла в общий вид свою лепту. У нее даже шапки на голове не было. От утренней идеальной прически не осталось и следа, а на правой щеке появилось нечто новое, похожее на царапину.
— Рикки, что с тобой? — спросил он.
— Отморозила свою красивую попку. Не удалось поймать такси.
— А что у тебя на щеке?
— Поскользнулась. Думаю, раза три.
Блумквист посмотрел на ее бордовые итальянские сапоги на высоких каблуках.
— Да у тебя же идеальные башмаки для глубокого снега!
— Совершенно идеальные. Не говоря уже о том, что я утром решила не надевать кальсоны… Гениально!
— Заходи, я тебя согрею.
Эрика упала к нему в объятия, задрожав еще сильнее, и он крепко прижал ее к себе.
— Прости, — снова сказала она.
— За что?
— За все. За «Сернер». Я была идиоткой.
— Не преувеличивай, Рикки.
Он смахнул снежинки с ее волос и лба и осторожно рассмотрел рану на щеке.
— Нет, нет, я должна рассказать, — проговорила Эрика.
— Только сперва я сниму с тебя одежду и усажу тебя в горячую ванну. Хочешь, еще дам бокал красного?
Она захотела — и потом долго сидела в ванне с бокалом, в который Микаэль дважды или трижды доливал. Блумквист сидел рядом с нею на унитазе, слушая ее рассказ, и, невзирая на отнюдь не добрые новости, их разговор носил примирительный характер, словно они прорвались сквозь стену, которую в последнее время между собой воздвигли.
— Я знаю, ты с самого начала считал, что я поступаю как идиотка, — говорила Эрика. — Нет, не протестуй, я тебя слишком хорошо знаю. Но ты должен понять, что мы с Кристером и Малин не видели другого выхода. Мы взяли к себе Эмиля и Софи, чуть ли не самых популярных репортеров, и так этим гордились… Для нас это было невероятно престижно. Это показывало, что мы набираем силу. И о нас действительно снова пошла хорошая молва, появились положительные статьи в «Резюме» и «Дагенс медиа»[32]. Прямо как в старые времена. Честно говоря, лично для меня большое значение имело то, что я пообещала и Софи, и Эмилю, что в нашем журнале они смогут чувствовать себя уверенно. Сказала, что у нас стабильное финансовое положение. У нас за спиною Харриет Вангер. У нас будут деньги на глубокие, потрясающие репортажи. Да, как ты понимаешь, я сама в это действительно верила. А потом…
— А потом небо слегка рухнуло.
— Именно, и дело ведь было не только в газетно-журнальном кризисе и крахе рекламного рынка. Еще целый клубок противоречий в Вангер-концерне. Не знаю, до конца ли ты понимал, какая каша там заварилась. Временами я рассматриваю это почти как государственный переворот. Все старые темные силы семьи — и мужчины, и женщины, ты ведь их знаешь, как никто, — все старые расисты и ретрограды объединились и вонзили Харриет в спину нож. Мне никогда не забыть ее звонок. Я раздавлена, сказала она. Уничтожена. Прежде всего, их, конечно, разозлили ее попытки обновить и модернизировать концерн, ну и, естественно, ее решение избрать в правление Давида Гольдмана, сына раввина Виктора Гольдмана. Мы тоже сыграли свою роль, как ты знаешь, — Андрей как раз написал статью о стокгольмских нищих, которая казалась нам его лучшей работой и повсюду цитировалась, даже за границей. Но люди из концерна…
— Сочли ее левацкой ерундой.
— Хуже того, Микаэль, — пропагандированием «ленивых мерзавцев, которые не в силах даже взяться за работу».
— Неужели они так сказали?
— Что-то в этом роде. Но, думаю, на самом деле статья никакого значения не имела. Она просто стала для них предлогом еще больше подорвать позиции Харриет в концерне. Им хотелось отказаться от всех изначальных идей Хенрика и Харриет.
— Идиоты.
— Господи, конечно, но нам от этого было не легче. Я помню те дни. Казалось, будто почва уходила у меня из-под ног, и, разумеется, я знаю, знаю, что мне следовало больше привлекать тебя. Но я полагала, что мы все выиграем от того, что ты сможешь концентрироваться на своих материалах.
— А я ничего путного не поставлял…
— Ты старался, Микаэль, действительно старался. Но я это говорю к тому, что Уве Левин позвонил именно тогда, когда казалось, что все пропало.
— Вероятно, ему кто-то нашептал про случившееся.
— Наверняка. И тебе, вероятно, не надо говорить, что поначалу я была настроена скептически. «Сернер» казался мне бульварной ерундой. Но Уве продолжал уговаривать, пустив в ход все свое красноречие, и пригласил меня к себе, в большой новый дом в Каннах…
— Что?
— Да, прости, об этом я тебе тоже не рассказывала. Думаю, мне было стыдно. Но я все равно собиралась на кинофестиваль, чтобы написать о той иранке, кинорежиссере. Ну, знаешь, о той, что преследовали за документальный фильм о девятнадцатилетней Саре, которую забросали камнями, и мне подумалось, что ничего страшного, если «Сернер» поможет нам с оплатой дороги. Как бы то ни было, мы с Уве проговорили целую ночь, и у меня по-прежнему сохранялось довольно скептическое отношение. Он так нелепо хвастался, пускал в ход разные коммерческие уловки… Но под конец я все-таки стала к нему прислушиваться, и знаешь, почему?
— Он оказался потрясающим в постели?
— Ха, нет; из-за его отношения к тебе.
— Ему хотелось переспать со мной?
— Он тобой безмерно восхищается.
— Ерунда.
— Нет, Микаэль, тут ты ошибаешься. Он любит власть, деньги и свой дом в Каннах. Но еще больше его гложет то, что его не считают таким же крутым, как тебя. Если говорить об авторитете, Микаэль, то Уве беден, а ты безумно богат. В глубине души он хочет быть таким, как ты, я это сразу почувствовала, и мне следовало бы сообразить, что подобная зависть может быть и опасна. Ведь ты же понимаешь, что в основе кампании против тебя лежало именно это. Твоя бескомпромиссность заставляет людей чувствовать себя жалкими. Ты просто фактом своего существования напоминаешь им о том, насколько они продажны, и чем больше тебя прославляют, тем более ничтожными предстают они сами. А в таких обстоятельствах есть только один способ защиты: окунуть тебя в грязь. Если ты упадешь, они почувствуют себя чуть лучше. Наговоры придают им немножко достоинства — по крайней мере, они себе это внушают.