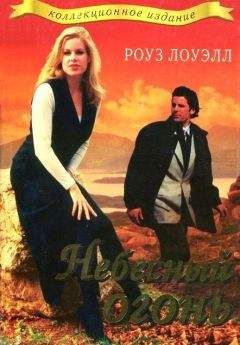– Скучища, – протянул он. – Почему август?
Джейсон. Грей. Все остальное.
– Черт, – до Томаса дошло. – Извини.
– Ничего. – Я сгребла пучок сухой травы и начала рвать травинки. Не хочу… Разговоры с Томасом – ночью и сейчас – первые беседы за целую вечность, когда не кажется, будто мозг странным образом изолирован, и не приходится подыскивать, что сказать…
Scheisse[22], я не в состоянии завершить предложения даже мысленно!
Томас положил руку на мои панически дергавшиеся пальцы, успокаивая дрожь. Зазвонили церковные колокола. Шесть часов. Похоронный звон.
– Пора идти, – произнесла я. – Умляута кормить.
Вскарабкавшись на ноги, я как попало запихала книги в рюкзак. Половину подобрал Томас. Пока мы пробирались сквозь траву, я увидела, что он несет дневники Грея.
– А это здесь… – Он не закончил, явно заразившись болезнью Готти Г. Оппенгеймер – невозможностью говорить о самом худшем, и огляделся. – Это здесь… Грея… того…
О боже. Я ему что, моральный урод – читать дневники покойника в окружении могил? Кладбище всегда было одним из наших тайных мест, пусть мама и похоронена с другой стороны церкви. С ней другое дело, в отличие от Грея она не была частью моей жизни. Она для меня незнакомка.
– Нет, – слишком резко сказала она. – Он… Мы не… – Я глубоко вздохнула. – Была кремация.
Церковь мы обошли в молчании, вдавливая в песок тисовые иглы. Путь лежал мимо маминой могилы. Для меня никогда не было шоком видеть на мшистом могильном камне дату моего дня рождения/ее смерти. Высеченная в камне неприкрашенная реальность: нам выпало провести вместе всего несколько часов, а потом тромб в мозгу и коллапс. Врачи оказались бессильны. Томас подхватил с земли камушек и одним гибким движением, не останавливаясь, положил его на стелу.
Новый ритуал. Мне понравился.
– Хорошо, что они у тебя, – Томас показал на дневники. – Будто он до сих пор рядом. Теперь мне гораздо легче свыкнуться с этой мыслью, когда я знаю, что это ты нарисовала Колбасу.
Я засмеялась. Иногда легко рассмеяться. Порой мне кажется, будто я вот-вот взорвусь, и никогда заранее не угадаешь. Как правило, это накатывает во время самых обычных занятий. Стою под душем, или ем маринованный чеснок, или точу карандаш – и вдруг подступают слезы. Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие потери – так обещают книги. Мне вместо этого достался принцип неопределенности: я никогда не знаю, когда на меня что найдет.
– Вот бы и мистер Татл оставил дневники после своей кончины, – подтолкнул меня локтем Томас.
Я снова рассмеялась:
– Все же приказал долго жить? А я думала, он вечен.
– Ну, вообще-то на этом посту сменились шесть хомяков. Отец наложил вето на бесконечное воскрешение мистера Татла в прошлом году – наверное, испугался попасть за решетку.
У самой калитки Томас обернулся так резко, что я покачнулась, – мы оказались слишком близко. Но даже когда нас разделяли несколько дюймов, Томас стоял под ослепительным солнцем, а я в тени.
– Го, я уже давно хотел сказать… Я тебе не сказал, что мне правда очень жаль. Насчет Грея.
И он меня обнял. Сперва я не знала, куда девать руки. Впервые после рождественских объятий бабушки и дедушки меня кто-то обнял. Я неловко стояла, будто состоя из одних локтей, когда Томас по-медвежьи сгреб меня в охапку. Но через секунду я тоже его обхватила. Объятия получились совсем как теплая булочка с корицей, и я провалилась в это ощущение.
И в эту минуту что-то глубоко в душе – я даже не знала, что оно во мне еще живо, после Джейсона-то, – наконец пробудилось.
[Минус триста двадцать восемь]
Через неделю начались дожди.
Настоящий библейский потоп лупил по крыше «Книжного амбара» так, что стеллажи дрожали. Совсем как в день отъезда Томаса. Утром я поднялась на чердак, где папа, встав на складной стул, притоптывал своими ножками эльфа в красных башмач… кедах в такт радио, намеренно переставляя поэзию не по алфавиту. Ухаживает за святилищем Грея. Сговорились они с Недом, что ли?
Он махнул мне томиком «Бесплодной земли».
– Сдраствуй. Покупателей нет?
– Я отключила вывеску, – сказала я, пробираясь к слуховому окну. Дождь хлестал уже горизонтально – не самая погода туристам пастись в книжных; чересчур даже для тех, кто смыслом жизни себе поставил купить какое-нибудь таинственное первое издание. За окном все казалось исхлестанным, иссеченным. За разверзшимися хлябями море вздымало вспененно-белые, будто покрытые глазурью волны. Одиннадцать утра, а темно, как ночью: в магазине горят все лампы. Находиться в самом сердце книжного, этакого светоча во тьме, все равно что сидеть на космической станции.
Мне хочется улететь. В последний раз я была здесь с Греем в тоннеле времени.
У меня по-прежнему нет догадок насчет того, что происходит. Мне казалось, с тоннелями я разобралась – это просто воспоминания высокого разрешения, но ведь из одного тоннеля я вернулась с фотографией мамы.
Существует принцип бритвы Оккама: когда у тебя много разных теорий, а фактов нет, самое простое объяснение, для веры в которое требуется наименьшее число прыжков веры, будет правильным. А самое простое объяснение происходящему в следующем: 1) я читала дневники, и картинка возникала на страницах, то есть 2) я, обезумев от горя, сама заставляю открываться тоннели во времени.
Неужели это правда? Я сумасшедшая?
Развивать эту мысль не хотелось. Даже если все происходит в моей голове, даже если я это все придумала – я хочу, чтобы это было правдой. В каждой воронке времени, в которую меня затягивает, я целую Джейсона, вижу Грея, нахожу себя.
– Как считаешь, ставить рядом Теда и Сильвию? – поинтересовался папа.
– Соф организует общественный протест, – сказала я, обернувшись от окна.
– Это же романтично, найн? – Папа выровнял книги на полке, сделал пометку в своем списке и посмотрел на меня: – Совсем как вы с Томасом. Знаешь, я был совсем немного старше тебя, когда познакомился с твоей мамой.
Я ошеломленно заморгала, глядя на него.
– Ты знаешь, что на столе для тебя лежит книга? – спросил отец. – Может, это от Грея?
– Оу. – Я помедлила в дверях, ожидая, что отец что-нибудь объяснит, расскажет про маму, про Грея. Ничего не дождавшись, я добавила: – Я обедаю с другом в кафе. Принести тебе сандвич?
– Я-а, – отмахнулся отец, жестом отправляя меня восвояси. Готова спорить, он не поднимет глаз несколько часов. Если я не положу сандвич ему под нос, он и поесть забудет. Я скорблю в тоннелях времени. Отец скорбит в своих мыслях уже много лет. Как пошла бы жизнь, останься мама жива? Тогда мы с Недом не выросли бы здесь с Греем.