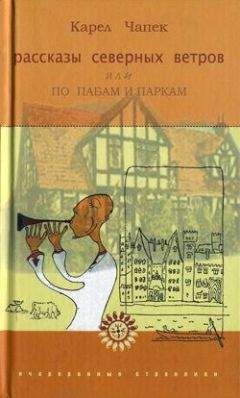Он вдруг утратил всю свою самоуверенность, он вспотел от усилий и смотрел на меня собачьими глазами.
- Не знаю, точно ли я выразил свое мнение... маэстро, - запинаясь, промямлил он и покраснел, но я покраснел пуще него, мне было ужасно стыдно, и поглядывал я, кажется, даже со страхом, в смятении бормоча:
- Но ведь стихи были плохие... Потому я и бросил это дело, и вообще...
Он покачал головой и все смотрел, смотрел на меня, не отрывая глаз.
- Не то!.. Вы... вы не могли не бросить. Если б вы... продолжали творить, вы неизбежно разбили бы вдребезги... Я это так здорово чувствую! вырвалось у него с облегчением, потому что молодым людям всегда легче говорить о себе. - Для меня было огромным наслаждением - прочитать ваши восемь стихов. Я тогда же сказал своей девушке... впрочем, это не важно, растерянно осекся он и обеими пятернями взъерошил волосы. - Я не поэт, но... способен представить себе... Такие стихи мог написать только молодой человек... и только раз в жизни. Если б он продолжал писать - обязательно как-нибудь примирил бы это противоречие... Собственно, ведь какая изумительная судьба поэта: раз в жизни выразить себя так невероятно сильно, так полно и - точно. А знаете, я вас представлял себе совсем иначе, брякнул он неожиданно.
Мне страшно хотелось услышать еще что-нибудь о моих стихах; хоть бы этот олух прочитал какое-нибудь. Но мне стыдно было просить, и я от смущения начал глупо и банально расспрашивать, откуда он и всякое такое. Он сидел как оплеванный, - видно, вообразил, что я разговариваю с ним, словно с мальчишкой. Ну и ладно, хмурься себе; не спрашивать же мне, что было еще в моих стихах и тому подобное. Будто уж сам не можешь начать! Разве я не оставляю достаточно длинных и тягостных пауз в разговоре?
В конце концов он поднялся - такой ненужно длинный.
- Ну, я лечу,- с облегчением вздохнул он, ища свою шляпу.
Ну, лети; конечно, молодость не умеет ни прийти, ни уйти. На улице его поджидала девушка, они взялись под руки и помчались к городу. Отчего это молодежь всегда так спешит? Я не успел даже пригласить его заглянуть еще раз; какой торопыга, я и не знаю, кто он...
Вот и все.
XXIV
Вот и все, а теперь хоть голову себе сломай, коли угодно. Видали - я, оказывается, поэт; кто бы подумал? То, что сказал этот юноша, ничего не значит - черт его возьми, юношу; молодость преувеличивает и не может не преувеличивать, как только рот откроет. Надо бы съездить в университетскую библиотеку, самому взглянуть, но доктор велит - покой и покой, вот и сиди дома, голову ломай. Нет, не вспомнишь ни одного стихотворения, - что уплыло, то уплыло; и куда только оно так проваливается?! "Как кокосовые пальмы бубнами зарокотали..." - по этому ничего не поймешь; только что головой покачаешь - господи, да откуда ты взял эти пальмы и что они тебе вообще? А кто знает, может, в этом, и именно в этом и есть поэзия - в том, что вдруг тебе, оказывается, есть дело и до кокосовых пальм, и, скажем, до королевы Маб. Пусть это плохие стихи, и юноша - болван, но вот факт; были кокосовые пальмы, и бог весть что еще! "Потрясающая фантазия", - говорил юноша; стало быть, там множество всякого, да еще какого удивительного - и все, видите ли, "фосфоресцирующее" и "раскаленное". И не важно, хороши или плохи те стихи, а вот как бы узнать, что же в них было, потому что ведь все это был я сам. Была, значит, когда-то жизнь, - в которой существовали кокосовые пальмы и другие удивительные вещи, фосфоресцирующие и раскаленные. Вот и ломай, милый, голову: ты же хотел привести в порядок дела твоей жизни, ну так и засунь эти кокосовые пальмы куда подальше, на самое дно ящика, где бы они не мешали, не попадались на глаза!
То-то же, милый: теперь уж не выйдет. Теперь тебе уже не отмахнуться, мол, чепуха, дрянь стишки, и я рад, что давно позабыл их. Нет, дорогой, были и кокосовые пальмы, рокотавшие бубнами, и мало ли что еще. Теперь хоть обеими руками отмахивайся, кричи, что стихи те и гроша не стоили, пальмы-то эти не выкорчуешь, не уберешь из жизни своей все, что тогда раскалялось и фосфоресцировало. Ты знаешь - это было, и юноша не лгал; юноша не дурак, хотя бы и ни черта не разбирался в поэзии. Я знал это, тогда я очень хорошо знал, что это такое. Толстый поэт знал тоже, но - не умел писать, потому он с таким отчаянием и издевался надо всем.
Но я знал; и вот теперь, милый мой, хоть голову разбей - откуда это в тебе взялось! Этого никто не понимал, даже толстый поэт; он читал мои стихи своими свиными глазками и кричал: ах, негодяй, откуда это в тебе взялось? Потом шел, надирался в честь поэзии и плакал: посмотрите на этого идиота вот поэт! Такой тихоня, а как пишет! Раз как-то он в ярости кинулся на меня с кухонным ножом: говори сейчас же, как это делается! А как оно делается? Поэзию не делают, она просто существует; это так просто и естественно, как ночь или день. И вовсе это не какое-то там вдохновение, а просто некое всеобъемлющее бытие. Все попросту существует. Все, что придет тебе в голову, - хотя бы кокосовые пальмы или ангел, взмахнувший крылами. Ты же - ты только даешь название тому, что есть, - как Адам в раю. Это страшно просто - только всего этого так много... Существуют неисчислимые вещи, их лицо и изнанка, существуют бесчисленные жизни; и вся поэзия в этом - в том, что все существует, и тот, кто знает это, тот - поэт. Посмотри, этот негодяй просто чародей: напишет о кокосовых пальмах - и вот они, качаются на ветру, стучат бурыми орехами; при всем том это так же естественно, как вид горящей лампы. Какое тут волшебство: берешь, что есть, и играешь фосфоресцирующими, раскаленными понятиями по той лишь божественно простой причине, что они существуют; они - в тебе или вне тебя, безразлично. Стало быть, это совершенно просто и естественно, однако при одном условии: что сам ты живешь в особом мире, которому имя - поэзия. Как только покинешь его - тотчас все исчезает, будто черт слизнул: нет ни кокосовых пальм, ни раскаленных, фосфоресцирующих вещей. "Как кокосовые пальмы бубнами зарокотали..." господи, да что я? Вот чепуха-то! Не было никогда ни пальм, ни бубнов, не было ничего раскаленного. Махни рукой, и только. Иисусе Христе, какая чепуха!
Ага, видишь: теперь жалеешь, что черт слизнул. И уже не знаешь сам, что там было, кроме кокосовых пальм, и никогда не додумаешься, что там еще могло быть, какие вещи мог ты увидеть сам в себе - и вот уж не увидишь никогда. А тогда ты их еще видел, потому что был поэтом; и видел ты вещи дивные и страшные - разлагающуюся падаль и раскаленное горнило, и бог весть, бог весть, что ты мог еще увидеть, - быть может, верующего ангела или неопалимую купину, заговорившую человеческим голосом... Тогда все это было возможно, потому что ты был поэт и видел, что есть в тебе, и мог давать этому названия. Тогда ты видел то, что есть; теперь же - кончено, уж нету пальм, и ты не слышишь, как стучат орехи. Как знать, брат, как знать, что бы и сегодня могло найтись в тебе, останься ты поэтом еще ненадолго. Нечто ужасное или ангельское, дружище, и все - от бога, неисчислимое, несказанное, о чем ты и представления не имеешь; сколько всего, сколько жизней и отношений вынырнуло бы вдруг в тебе, если б хоть раз еще снизошло на тебя грозное благословение поэзии! А теперь что ж - ничего этого ты больше не познаешь; пропало, исчезло это в тебе, и - конец. Знать бы только, отчего; знать, отчего ты тогда сломя голову бежал от того, что заключалось в тебе; чего же ты так ужаснулся? Вероятно, всего этого было слишком много, или слишком было оно раскалено, начало обжигать руки; или - фосфоресцировало слишком уж подозрительно, а может быть, кто знает, вдруг запылала купина и ты испугался голоса, которым из того куста говорил бог. Было в тебе нечто, чего ты ужаснулся; и ты обратился в бегство, остановясь лишь - где, собственно? На последней на свете станции? Нет, там еще вспыхивало изредка. Только уж на своей станции ты остановился, укрывшись за надежным порядком. Там-то уж ничего больше не было, там, слава богу, ты обрел покой. А ты боялся этого, как... скажем, как смерти; и, как знать, может, то и была смерть, может, ты чувствовал: берегись, еще несколько шагов по этой дорожке - и я сойду с ума, погибну, умру. Беги, друг, из пламени, пожирающего тебя! И вовремя: через два-три месяца алый сок брызнул твоим горлом, и много труда ты положил, чтоб кое-как излечиться. И дальше уж - крепко держаться приличной, солидной, размеренной жизни, которая не съедает человека. Будешь теперь выбирать лишь то, что необходимо, и перестанешь видеть все то, что есть в жизни; ибо там есть и смерть, она жила в тебе среди страшных, опасных понятий, которым ты давал названия. Итак, все это теперь захлопнуто крышкой и не может выйти наружу, как бы оно ни называлось - жизнью или смертью. Захлопнуто, ушло, нету его; да, брат, основательно ты стряхнул с себя это все и по праву махнул рукой: чепуха, какие там еще пальмы! Это даже и не достойно зрелого, деятельного мужа.