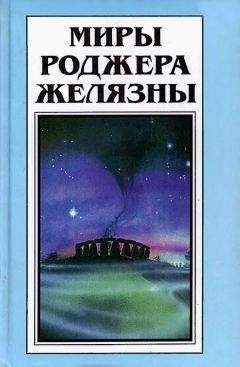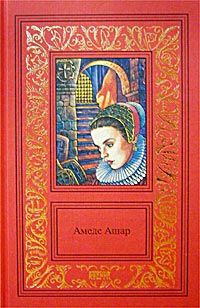Вскоре исчезло все, кроме заколки. Она медленно уплывала в безвидную серую мглу. Данька не мог оторваться от золотого балласта, уходя следом, на дно. Он не сопротивлялся: рядом доктор.
Доктор знает, что делает.
Вокруг заколки вновь начали проступать контуры человеческого тела. Борис Григорьевич больше не стоял, улыбаясь, не тянул руку для приветствия. Он лежал… на кровати? Да, на больничной кровати. Ясно различалась никелированная спинка, натянутое до подбородка одеяло в крахмальном пододеяльнике, который топорщился острыми складками. Лицо у Зинченко – восковая маска в обрамлении бороды. Но глаза – живые, внимательные, совсем не такие, как у больного, встретившегося им в коридоре института.
Доктор медлил, ожидая.
У изголовья – капельница на высоком штативе, под одеяло уходит тонкий прозрачный шланг. Рядом – тумбочка, на ней – граненый стакан с водой, раскрытые упаковки лекарств. Еще в палате было окно. И за окном – лес.
Тот самый.
В лесу стояла осень. Облетали клены и дубы, шуршал ковер из палых листьев; просветлев, стал прозрачным подлесок… Очень похоже на лесопарк где-нибудь за Мемориалом. Странно, в лесу «плюс первого» Данька никогда не видел грибов. Или просто не искал специально? Издали донесся перестук барабанчиков: тук-тук, ты-ли-тут? Раз далеко, значит, время есть.
Полным-полно времени.
Данька перестал глазеть в окно. Его заинтересовала фактура стен в палате. Поначалу казалось: обычная побелка, с едва заметной желтизной, словно старая бумага. Кое-где в трещинках. Нет, не побелка: кожа. Может, олигархам такие палаты и положены – со стенами, обтянутыми человеческой кожей?
А синеватые трещинки – и не трещинки вовсе.
Татуировки.
Обвитый змеей кинжал, восьмиконечная звезда, трехгранный штык, руки в кандалах сжимают крест, лучи белой короны косо отходят в стороны. Мишени, подсказало снайперское чутье тирмена. Но Данька ведь не собирается стрелять, правда? Он здесь не за этим!
Тяжесть оружия оттянула правую руку.
Что за странная штуковина?! Такой пистолет он видел в историческом кино: тяжеленная дура-шестистволка с кремневым замком и рукояткой, удобной в лучшем случае для тролля. Баланс отвратительный, стволы заметно перевешивают, приходится напрягать кисть, чтобы они не уходили вниз. Заряжали дуру дымным порохом: засыпали в каждый ствол, забивали пыж, пулю, еще один пыж…
Но в восьмиконечную звезду он бы наверняка не промазал, даже из антикварной шестистволки. А если попасть в кинжал, обвитый змеей, клинок со звоном перевернется, как в «нулевке», и останется висеть, качаясь, острием вниз. Со штыком сложнее: узкий, зараза. Руки с крестом? – вряд ли. Корону точно не выбьем – она крошечная, и в неудобном месте, под потолком.
Данька осторожно убрал палец со спуска. Опустил оружие стволами в пол – от греха подальше. Словно отвечая, рядом шевельнулся доктор. «Ы» шагнул к кровати больного, где Даньке почудилась еще одна фигура.
Игра теней? Призрак?
Галлюцинация?
Женщина – или то, что казалось женщиной, – стояла сбоку от кровати. Не в ногах и не в головах, примерно посередине. Ну, может быть, чуточку ближе к изголовью. Данька заметил начерченный на полу бледный полукруг с черточками-делениями – отметки оптического прицела или шкала прибора. Зыбкая фигура расположилась напротив деления в центре «шкалы».
Или это свет так падает? Точно, свет из окна! И занавеска колышется.
«Ы» аккуратно обошел то место, где свет и тень играли в свои странные игры. Встал в изголовье кровати, крепко взявшись руками за никелированную спинку. Доктор напрягся, словно штангист перед рывком, и потащил кровать на себя. На лбу «Ы» вздулись жилы, лицо под колпаком налилось кровью.
Оглушительный скрежет, и все закончилось.
– Шанс есть, – страдая одышкой, сообщил Поплавский, вернув фотографию дяде Пете. – Не обольщайтесь, ситуация спорная. Я бы рекомендовал обратиться к профессору Осторженко. Сейчас я запишу вам телефон. Осторженко Геннадий Лукич. Если коллеги станут говорить, что он шарлатан, не обращайте внимания. Вот, пожалуйста. Пусть ваш знакомый скажет, что от меня, и его примут.
«Ага, попробовал бы этот профессор не принять Зинченко!» – подумал Данька. Но обругал сам себя за глупость. Доктора, оказывается, разные бывают. Очень разные.
– Спасибо, Виталий Павлович.
– Не за что, Петр Леонидович. Рад был вас видеть. Если что – заходите.
– Уж лучше вы к нам! – отшутился старик.
– Куда теперь? – мрачно поинтересовался Данька, когда они вновь оказались на улице.
– В военкомат, – ответил Петр Леонидович.
– Все равно погоришь, Кондратьев. И тому две причины есть…
Лейтенант Карамышев подышал на чисто вымытое бритвенное лезвие, полюбовался блеском золингеновской стали.
– Умеют, гады! Фирма «Бартман»… Надо же, и не слыхал прежде! Пусть высохнет, жалко вытирать.
Бритва была трофейной, взятой у пленного немца три дня назад. С помощью этой бритвы энкавэдист его и допрашивал, прежде чем отправить фашистскую душу по назначению. В одиночку – никто, включая Кондратьева, смотреть на такое не решился.
Лейтенант от души плеснул в лицо одеколоном «Le Male» – тоже взятым в бою, но французским. Так сказать, дважды трофей.
– Ух-х-х!.. Ты бы побрился, товарищ техник-интендант! Кипятку еще целых полкотелка. А то бойцы боевой дух потеряют при виде небритой морды твоего лица.
Кондратьев провел ладонью по щеке. Надо бы…
Потеряют дух – где искать станешь?
На прошлой неделе их маленькую колонну впервые попытались перехватить на лесной просеке. Грамотно, по всем правилам: завал впереди, пулеметы с двух сторон. А заодно, для пущей верности – полсотни противопехотных мин.
Повезло – в последний момент остановились. Карамышев словно почуял, уперся, уговорил выслать разведку. Тогда и поняли, что происходит. Не случайная часть, не тыловики-обозники – райтерштурм СС из кавалерийской бригады Фегелейна. Эсэсовцы из самых бешеных – «Тотенкопф», охрана концлагерей.
«Боевой группой Интенданта» занялись всерьез.
Теперь шли ночами: отстреливаясь, огрызаясь, меняя маршрут каждые пять часов. Помогало не слишком – и без того редкая колонна окруженцев 11-го мехкорпуса растаяла наполовину. Фронт был близко, но гирьки на весах подруги-Судьбы опускались ниже, ниже, ниже…