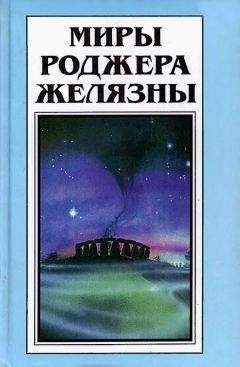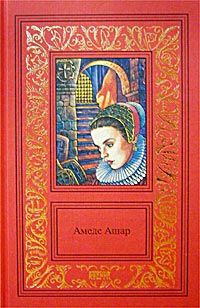– Ничего, – успокаивающе бормочет кентавр, петляя переулками, – ничего, Алька, мы уже около Окружной… сейчас выбираться будем, ты только потерпи, немного осталось…
Я купаюсь в его бормотании, в жаркой парной теплыни, боясь расстегнуть зимнюю куртку, и пот бороздит мой лоб липкими струйками.
За минуту до того, как Фол уверенно свернет в подворотню, неряшливо обросшую шевелюрой дикого винограда, за минуту до зимы, поджидающей нас на той стороне пушистым изголодавшимся зверем – за минуту до обыденности я поворачиваюсь, и на углу бесплотных улиц неожиданно отчетливо вижу… Пашку.
Павел свет Авраамович, братец мой непутевый, стоит около сияющей свежей краской будки телефона-автомата – вместо того, чтобы процветать на островке близ побережья Южной Каролины в окружении акул капитализма – и оглядывается по сторонам. Оглядывается плохо, хищно, поворачиваясь всем телом, движения Пашки обманчиво-медлительные, как у большой рыбины, и еще у него что-то с руками, только я не могу разглядеть, что именно: предплечья уродливо толстые, лоснящиеся и как-то нелепо срезанные на конце, похожие на культи, обрубки эти все время шевелятся, подрагивают меленько, поблескивают жемчужной россыпью…
И Вывернутые жители, не замечающие друг друга, обходят Пашку сторонкой, спеша перейти через дорогу, забежать в подъезд или на худой конец стеночкой-стеночкой и во дворик… не нравится им Пашка, пахнет от него неправильно, или прописка у него нездешняя, или еще что…
«…мы знойным бураном к растерзанным ранам,– многоголосо рокочет у меня в мозгу, – приникнем, как раньше к притонам и храмам, к шалеющим странам, забытым и странным, и к тупо идущим на бойню баранам… пора нам!..»
Я моргаю, невозможный Пашка исчезает за будкой, и спустя мгновение по улице проносится свора белоснежных псов с человеческими мордами, в холке достигающих груди взрослого детины.
Первач-псы.
Принюхиваясь и взволнованно обмениваясь рваными репликами, они тоже скрываются за будкой; и больше я ничего не вижу, ничего не слышу.
Только брезжит на самом краю сознания тихий лепет клавиш старенького пианино; да еще знакомый с детства голос пробует на вкус полузабытые слова:
– Знаешь, мне скажут, ты не обессудь,
Дело такое – кричи не кричи,
В скорости дом твой, конечно, снесут,
Раз труханут, и одни кирпичи!
Рушить, не рушить, сегодня, потом, –
Кто за меня это взялся решать?
Все это, все это, все это – дом,
Дом,
Из которого я не хотел уезжать…
* * *
Все.
Финита ла сюита.
4
– А я думала, что тебе Ерпалыч давным-давно все рассказал, – растерянно бросила Папа уже знакомую мне фразу, заворочавшись совсем по-детски. Словно это была какая-то другая, не та Папа, которая с гнедым Пирром перекрывала объезд преследующим нас архарам, да так, что «жуку» пришлось мотать напрямую через Хренову Гать.
– Увы, Папочка, – с трудом выговорил я. – Ошибочка вышла…
Папа жалостно смотрела на меня, и на лице ее, длинном лике развратной святой, украдкой спустившейся с полотен Эль Греко нюхнуть марафету, было написано: «Врешь ты все, Алька!..»
– Да ты чайку ему лучше плесни, – буркнул Фол, глубоко затягиваясь мятой сигаретиной.
Чаек у них был еще тот – не знаю уж, что они в него пихали, кроме меда, мяты и самогона, но жить после него хотелось, а двигаться не получалось.
Вот я и не двигался, а лежал в ворохе драных одеял и смотрел на Папу. Строгий узкий пиджак в крупную клетку, крахмальная манишка цвета первого снега, кожаная селедка галстука заколота золотой булавкой, фианитовые запонки на манжетах – и снизу кокетливо вывернутые колеса, а сверху короткая набриолиненная стрижка и мужская шляпа с кантом. Однажды мне довелось видеть, как ослепительная Папочка обижала кентавра-грубияна, посмевшего вслух усомниться в правильности Папиной сексуальной ориентации, обижала долго и сильно, вплотную приближаясь к членовредительству; а потом приехал Фол и от души пособил. Кажется, Фол был неравнодушен к Папочке. Кажется, Фолу хотелось проверить – что там, под пиджаком, манишкой и так далее? Бьется ли там сердце и в чем оно, так сказать, бьется? Я не исключаю, что мой бравый приятель уже успел это проверить, и теперь ему хотелось еще.
Ладно, замнем для ясности…
– Это потому, Алька, что вы все живете на кладбище, – сквозь подступающий сон доносился голос то ли Фола, то ли Папы, путаясь в дремной вате. – Живете, и сами не замечаете…
«Мы знойным бураном…– смеялся сон. – Мы…»
Я снова смотрел на вылезающего из стены исчезника, валялся на полу мордой в паркет, вертелся в снежном смерче побоища у машин, несся верхом на Фоле – и понимал, что сплю. Жизнь моя во сне стремительно летела под откос, как мальчишка по укатанной ледяной горе, оседлав скользкую картонку. Смешно! – еще совсем недавно главной проблемой были отношения с козлом-редактором… что там еще?.. ну, Натали почти забылась, это не в счет, отец почти не пишет, а дозвониться на его необитаемый остров совершенно невозможно… чепуха.
Огрызки от яблок.
Выпейте перцовки с психом Ерпалычем – и жить вам станет весело и необустроенно, начнете вы хлебать чаек-горлодер по подвалам Дальней Срани… кстати, что ж это мы в подвале?.. а-а, на первом этаже вайдосит многодетное семейство лопуха-электрика, на втором молодожены неутомимо кряхтят от любви, и не было бы нам с Фолом и Папочкой покоя ни светлым днем, ни темной ночью – а в подвале хорошо, печечка дымит-кочегарится, лампочка под потолком подмигивает нервным тиком, не нравится лампочке напряженьице, ох, и мне не нравится, что сплю я и вижу, как лампочка моргает…
Жизнь моя, иль ты приснилась мне?..
Если бы! – а то ведь даже в царстве грез отсвечивает, что Ерпалыч мне, лучшему другу с двухколесной точки зрения Папы, отнюдь не все выложил, в письмишке-то! Не верю я тебе, Ерпалыч, ни на понюшку табаку не верю: что ж ты, хрен старый, кучу времени со мной на бегу общался, а тут вдруг разоткровенничался? Знать, шибко нужен я тебе стал… всем стал нужен: Ритке, чтоб свел сержанта с Фолом, Ерпалычу для упражнений в эпистолярном жанре насчет «мифологической реальности», следовательше Эре для задушевных бесед, полковнику-архару для… вот этому точно что для.