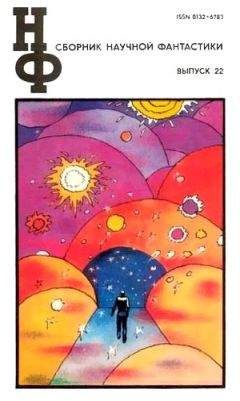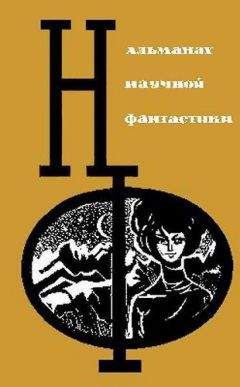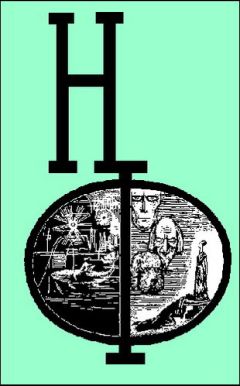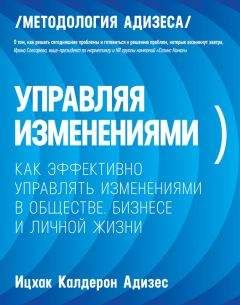— По-моему, важнее не язык, в психология, — возразил я. — С середины двадцатого века ученые довольно спокойно воспринимают самые необычные вещи. С того же времени и стало возможно прогнозировать дальние открытия.
— Вроде последней астаховской идеи? — насмешливо сказал Патанэ. — Тюдор как-то сделал отличную работу. О критической массе информации. На обсуждении были обычные ругательства — я имею в виду выступление Астахова…
— Погодите, Евгений, — прервал я. — В чем была суть спора?
— Тюдор открыл, что невозможно накопление информации в заданном объеме больше определенного предела. Начинается искажение. Ну, скажем, колоссальная библиотека. Взяли сто Спиц и набили до отказа книгофильмами. Через день посмотрели, и что же? Рожки да ножки от вашей книготеки! В каждом книгофильме, — а у вас там и научные труды, и любовные романы, — произошли какие-то изменения. Да не просто какие-то, а со смыслом! Может, даже возник сам по себе новый рассказ. Например, история о капитане Киме Яворском. Без программы — таково свойство самой информации. Тюдор утверждает, что аналогично действует и мозг. Количество информации в нем всегда надкритическое. Это и позволяет мозгу иногда действовать в режиме ясновидения. И эвристическое мышление оттуда же… Так вот, Астахов на семинаре сказал, что все это бред. Вы, говорит, не учли, что возможны иные формы информации, о которых мы не знаем, потому что есть формы материи вне пространства-времени. Мол, пространство-время — форма существования материи. Но ведь не единственная! Как ваше материалистическое мышление выдерживает подобную идею?
— Скажите, — прервал я его, должно быть, не очень вежливо. Мне пришла в голову довольно странная мысль, и я почти не слушал Евгения. — Скажите, у вас тоже были стычки с Астаховым?
— У кого их не было? — недовольно сказал Патанэ. — Разве что у Игина, так ведь он и не создал ничего нового за два года…
— Вы хотите сказать, что с Игорем Константиновичем не могли поладить лишь те, кто здесь, на стройке, выдвигал новые гипотезы, предположения…
— Можно и так, — согласился Патанэ. — Начиналось всегда с этого, любая ссора.
Загудел селектор, и Патанэ тут же отключился. Руки его опять были в беспрестанном движении, он шептался с машинами, это было интересно, но не сейчас.
Я знал, что нащупал нить, возможно, совершенно неверную. Патанэ не обращал на меня внимания, и я позволил себе бестактность. Я подошел к хранилищу — узкому шкафу, где складывались книгофильмы обо всех наиболее важных событиях, происходивших на стройке. Сменный пенал лежал на обычном месте — в первом верхнем ящичке.
Сначала я увидел их всех — первых строителей Спицы, экипаж звездолетов «Орест» и «Пилад». Тридцать восемь человек. Низкий голос, слегка картавя, называл имена и рассказывал краткие биографии. Голос, очевидно, принадлежал командиру, известному космическому строителю Седову… Астахов был восьмым.
Я нажал на клавишу — смена-2. Теперь я увидел четверых. Астахова среди них не было. Кибернетик Даль. Инженеры Вольский, Диксон, Капличный. Об Астахове сказали — остался на ПИМПе по состоянию здоровья, выполняет обязанности сменного инженера. Я не знал никого из этих четверых. Хотя… Диксон. Расхожая фамилия. То ли Джон, то ли Марк… Нет, Лайнус! Семь лет назад, наверное, вскоре после возвращения с Ресты, он предсказал полимерные планеты. Шум был большой, расчеты показывали, что такие планеты неспособны образоваться. Диксон стоял на своем. А совсем недавно полимерные планеты открыли в системе Беги. Облака полимерных цепей, сквозь которые пришлось пробиваться лазерами, нити снова срастались, и «Гея», захваченная ими, две недели не могла вырваться в открытый космос. Удивительная система, и если я хоть наполовину прав… Не нужно увлекаться. Диксон только один из четырех.
Смена-З. Отличная голограмма на фоне сверхсветового лазера. Я не стал слушать объяснений — я знал этих людей. Никогда не думал, что они работали на Ресте. Морозов, Вахин, Дейч и Краузе. Открытие Вахина — мезонный лазерный эффект. Морозов и Дейч — сенсационное доказательство возможности движения вспять во времени. И Краузе — тихий Краузе, как о нем говорили. Открытие системы общественного подсознания.
Смена-4. Я не удивился уже — знал, чего ждать. Басов, Леруа, Ку-Ира и Сандрелли. Совсем «свежие» открытия, сделанные не больше двух лет назад.
Я поймал себя на том, что бессмысленно улыбаюсь. Видел бы Патанэ. А впрочем, чему я радуюсь? Я нашел косвенное доказательство того, что Астахову удалось взобраться на вершину по крутизне дорог. Косвенное доказательство — не более. И еще: если Игорь Константинович вовсе не был неудачником, то что означает его гибель? Случайность?
— Изучаете историю? — сказал Патанэ. Он стоял за моей спиной и рассматривал последний кадр: пятая смена после прибытия на станцию.
— Как будто… — неопределенно ответил я, попрощался и ушел. Патанэ остался недоумевать — отчего это Яворский вдруг сник?
Было о чем подумать. На каком-то этапе рассуждений, еще вчера, я перестал верить Астахову, верить в его талант. Слово «неудачник», сон, версия самоубийства загипнотизировали меня, и я прошел мимо очевидных фактов. Если случайной могла быть гибель человека, то нельзя объяснить случаем, что все, кто работал на Ресте, делали впоследствии выдающиеся открытия. Именно впоследствии, а не до.
Я плохой психолог, но даже мне известно о существовании трансверсии. Любая мысль преобразовывается подсознанием по определенным законам. Сначала вы интуитивно выворачиваете мысль наизнанку. Вам говорят «белое», а вы начинаете думать о черном. Потом вступают в действие принципы увеличения и уменьшения — вторые по силе.
Допустим теперь, что у меня есть отличная идея — открытие, подсказанное интуицией или методикой, неважно. Я хочу, чтобы аналогичное открытие сделал, например, Тюдор, и главное — чтобы он воспринял открытие как свое. В разговорах с Тюдором я должен все время высказывать одну и ту же бредовую — или тривиальную? — но хорошо продуманную мысль, высказывать упорно, чтобы она вызвала у Тюдора внутреннее сопротивление, раздражение, чтобы она засела в его сознании. Нужные ассоциации родятся непременно. Настанет момент, и Тюдора осенит. Может быть, это случится уже на Земле. Будет он знать, почему все время думал именно а этом направлении? Вряд ли.
Что ж, как рабочая гипотеза это сойдет. Понятно, почему не было идей у Игина — он слишком мягкотел, трансверсия рассчитана на непременное внутреннее сопротивление слушателя.